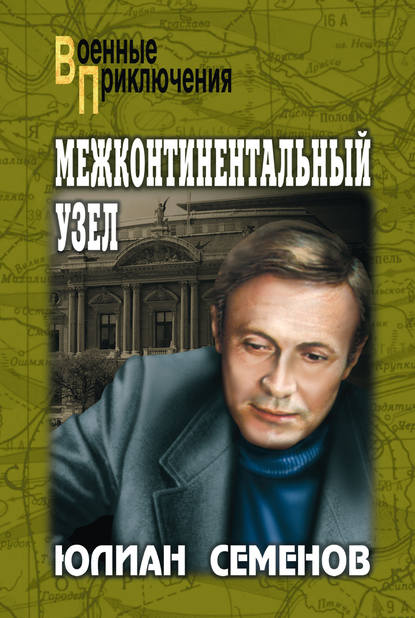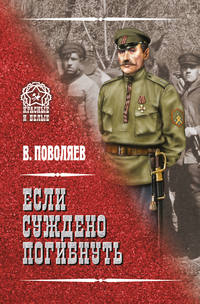Полная версия
Опасная тишина
Подушка соскочила следом за ним на пол, Мягков, кряхтя и морщась от того, что ломило натруженные мышцы, водрузил ее на место, прикрыл наган, лежавший на матрасе, – обычно наган давил ему снизу на ухо, комендант чувствовал его даже через толстую подушку, набитую куриным пером… Солидный был кусок металла, дерево наган пробивал насквозь, доску в три пальца легко превращал в щепки.
Второй наган Мягков обычно пристраивал на краю высокой печи – мало ли что, вдруг его придут убивать? А у пограничника Мягкова в этом городке враги имелись. В основном из тех, кому он не давал разбойничать ни на берегу, ни в море.
Держась одной рукой за спину, другой комендант открыл запертый на ключ висячий шкафчик, распахнул дверцу. В углу, прикрытый папкой, стоял графин с белесой, похожей на отжим от творога жидкостью. Это была самогонка.
Комендант держал графин на всякий случай – вдруг зимой провалится в карповое озеро или угодит в морскую купель, тогда самогонкой и растереться можно будет, и внутрь принять, и соседа по несчастью, если таковой окажется, обработать. Универсальный продукт, в общем, самогонка эта…
И в ситуации, когда не спится, а перед глазами мельтешат расплывающиеся меловые кресты, пара мензурок самогонки тоже не помешает, приведет в норму. У Мягкова для этого нужного дела имелось несколько разлинованных лесенкой фельдшерских шкаликов, – на целую компанию, – он наполнил пару стекляшек, стукнул одним шкаликом о другой, чокнулся, значит, – выпил дуплетом. Самогонка была крепкая, его нынешнего коня по имени Гнедок могла запросто сбить с копыт. Она подействовала – через несколько минут Мягков провалился в тревожный, какой-то призрачный зыбкий сон.
Личная жизнь у орденоносца Василия Мягкова не складывалась: первую невесту свою, санитарку Настю, он потерял на фронте, когда воевал с деникинцами, произошло это под Новороссийском, – с обозом раненых она угодила в плен и была расстреляна белыми.
После ее гибели Мягков сошелся с привлекательной фигуристой девушкой Тоней Сандаловой из агитотдела штаба дивизии. Думал, что протянет с ней до старости, сгородит двух детишек, а потом увидит и внуков, но и с Тоней ему не повезло – Тоня погибла от случайной пули, выпущенной одним ополоумевшим белым офицером.
Пуля лишь коснулась ее шеи и посвистела дальше, но этого касания было достаточно, чтобы у девушки оказалась перебита сонная артерия: раскаленный свинец разорвал ее пополам.
Спасти Тоню не удалось.
В гибели Тони Сандаловой Мягков увидел недобрый знак. Больше он не делал попыток отыскать среди «прекрасных мира сего» одну-единственную, надежную, преданную, которая станет его спутницей до конца жизни. Хотя кто знает: время ведь такая штука – и лечит оно и калечит. Но прошла пара лет, и он понял: нельзя так, не годится человеку быть одному. Пути жизни неисповедимы – жизнь есть жизнь.
Из родных у Мягкова тоже никого не осталось – всех выбили последние три войны, японская, германская и Гражданская. Тех, кого не выбили пули, подобрали болезни – тиф, брюшной и сыпной, холера, разные простуды.
Ладно, хватит ковыряться в своем прошлом… Мягков протестующее покачал головой, во рту у него сделалось горько: это как так хватит? Он чего, Иван, не помнящий родства?
Нет, родство свое он помнит, и будет помнить всегда. Как и места, где обитали его родичи и жил он сам.
Раньше Кубанская область, граничавшая на севере с областью Войска Донского, а с востока со Ставропольской губернией и Терской областью, делилась на районы по полковому признаку. Если в других губерниях и областях, не имеющих отношения к казакам, деление шло на уезды, то в Кубанской области – на полковые отделы и округа.
Кавказский отдел, Екатеринодарский, Темрюкский, Майкопский и Лабинский отделы, Полтавский полковой округ, Уманский, Таманский, Хоперский, Кайский полковые округа…
Старое административное деление перепуталось, переплелось с новым, одни мыслили по-старому, другие по-новому, третьи – никак. Мягков невольно усмехнулся: чека мыслит по-новому, ревком – как придется, командиры полков, набранные из многоопытных царских офицеров, – по-старому.
У нынешней власти еще руки не дошли до административного деления. Как и до переименований… Ну что означает такое имя – Екатеринодар, главный город Кубанской области, названный так в честь императрицы Катьки, Екатерины Второй?.. А революция, как известно, ни цариц, ни царей не признает, она их отменила – ненужный это класс, лишний.
Значит, старому Екатеринодару надо давать новое имя.
Утром, едва Мягков появился в комендатуре, со скамейки в дежурном помещении поднялась девушка в красной косынке и котах – самодельных тапочках из брезента, – надетых на босую ногу.
На старенькой полосатой блузке поблескивал алой эмалью кимовский значок.
– Это к вам, товарищ командир, – дежурный, выскочивший из-за стола, лихо, с оттяжечкой, козырнул.
Мягков стянул с коротко остриженной темной головы фуражку, вытер влажное нутро платком.
– Вчера вечером, на базаре, перед самым закрытием, я слышала очень неприятный разговор, товарищ начальник, – сказала девушка.
– Что за разговор?
– Два подвыпивших мужика хвастались друг перед другом: скоро советская власть будет свергнута не только в нашем городе, но и на всей Тамани.
– На всей Тамани? Даже так? – Мягков мигом вспомнил меловые кресты, нарисованные на воротах.
– Да, на всей Тамани, – подтвердила девушка. – И еще хвастались они, что тогда и берег и море будут принадлежать им.
– Узнать этих людей сможете?
– Если увижу – смогу. Только они не нашенские, не городские, я их в первый раз видела.
– Понятно. А внешность их запомнили?
– Конечно, – уверенно произнесла девушка.
– Молодец! Это уже что-то. Как тебя величают? – на «ты», потеплевшим голосом поинтересовался Мягков.
– Даша. Даша Самойленко я.
– Молодец, Даша Самойленко, – похвалил девушку комендант, потом ухватил пальцами ее руку, благодарно потряс. – Пошли в кабинет, там обрисуешь внешность этих деятелей письменно. Справишься?
– А отчего, собственно, не справиться? Конечно, справлюсь.
– О чем еще талдычили эти контрреволюционно настроенные мужички?
– Говорили, что город украсят виселицами. На каждой виселице будут болтаться по два большевика: один с одного края, второй – с другого.
– Грозные господа, однако, – хмыкнул Мягков, покачал головой, – только сомневаюсь я, что они найдут виселицы на всех большевиков.
Сигнал, который принесла девушка с кимовским значком на блузке, был нехороший – явно где-то что-то затевалось, кому-то очень захотелось пострелять, и сигнал этот, как чувствовал Мягков, явно смыкался с меловыми крестами.
Надо было искать концы: откуда конкретно исходит опасность? Было над чем поломать голову.
Для начала обо всем увиденном и услышанном Мягков доложил Ломакину, тот привычно пошевелил усами и хряснул кулаком о кулак.
– Вот гады! – выдохнул из себя со сдавленным сипением. – Крови нашей, значит, захотели? Л-ладно, – он расправил одну ладонь и также хряснул по ней кулаком. – Поднимай-ка, Мягков, чекистов, это больше по их части, чем по нашей. И давай в десять ноль-ноль проведем совещание, подумаем, что нам делать дальше.
Совещание было немногочисленным: один человек от ревкома, – прибыл сам руководитель организации Журба, двое – из чека и трое пограничников – Ломакин, комиссар Ярмолик и комендант Мягков.
На совещании Ярмолик поднял Мягкова на смех, даже расхохотался заразительно, смех его был звучным, как у актера, слышен далеко, комиссар взмахивал одной рукой, словно бы воздух раздвигал, освобождал пространство для собственной точки зрения.
– У страха глаза велики, Мягков, – выплеснул он из себя вместе со смехом, – почудилось тебе… Гражданская война уже прошла и никогда в эти края не вернется. Ни белых, ни красных нет… Увы!
Комендант сжал зубы, на щеках его вздулись желваки. Ярмолика остановил один из чекистов, старший, – забавный дядька в соломенной шляпе и вышитой украинской рубахе навыпуск. Глядя на него, ни за что не подумаешь, что дядька этот, больше похожий на сельского попика, чем на чекиста, работает в столь грозной организации.
С другой стороны, у него все было продумано, даже в незаурядной внешности. Под длинной рубахой, например, было удобно прятать не только пистолет, но и гранаты. И никто ничего не увидит, не засечет.
– Не так страшен черт, как его малюют, – продолжил свое выступление Ярмолик, в голосе его зазвучали воодушевленные нотки, он азартно вскинул голову, намереваясь своим красноречием заразить, увлечь других, но чекист прервал его:
– Страшен черт, еще как страшен…
Комиссар словно бы на препятствие налетел, хлопнул ртом, захватывая воздух и умолк. Чекистов он боялся.
– Я тоже считаю, что черт страшен, – поддержал чекиста Журба, – это дело трэба расследовать со всей серьезностью.
– Времени у нас – с гулькин нос, а для серьезного расследования требуется время, – по лицу чекиста проскользила досада, он поскреб пальцем висок. – События могут развиваться стремительно – вдруг сегодня ночью в городе произойдет контрреволюционное выступление?
– Все может быть, – резонно произнес начальник пограничного отряда.
– Прошляпили мы, – чекист сморщился, – виноваты…
– Как бы там ни было, разгребать грязное белье придется.
– И чем быстрее – тем лучше. Напрасно товарищ Ярмолик так легкомысленно относится к крестам на воротах.
– А ему чего? – Ломакин развернулся всем своим грузным телом к комиссару, стул под ним заскрипел жалобно, – В бой не идти, из винтовки не палить. Он будет стоять сзади наступающей цепи и вдохновлять бойцов пламенным словом. Потом застегнет рот на две пуговицы и отправится отдыхать.
– Не нападай на комиссара, Ломакин, – предупредил Журба, – у него хлеб тоже несладкий.
– Да я и не нападаю, – Ломакин хмыкнул, – это я так, для профилактики. Чтобы конь не застаивался.
Базар, на котором пили пиво два болтливых мужика, взяли под контроль – может быть, деятели эти появятся снова? Хотя надежды, что это произойдет, не было никакой. Но тем не менее решили отработать и этот вариант – а вдруг?
К поиску привлекли Дашу Самойленко, попросили только сменить очень приметную косынку на другую, да снять с блузки кимовский значок, – чтобы не бросаться в глаза базарной публике, которая умеет засекать не только журавля в небе, но и мух на деревьях, как сказал ей чекист.
Везение не обошло ни чекиста, имевшего профессиональный нюх, на который тот, в общем-то, и надеялся, ни Дашу, – они увидели на базаре вчерашнего пьяненького мужика, он продавал с телеги товар со своего огорода – огурцы и ранние мелкие дыни, еще не успевшие пожелтеть, но, как утверждал хозяин, сладкие.
Оказалось, мужичок этот жил в богатой и большой станице, расположенной в семи километрах от города, и на базаре городском бывал редко, потому глазастая Даша никогда его не встречала… И вот на что сразу же обратил внимание опытный чекист – на постое в станице этой пребывал пехотный полк. В состав полка был включен и морской десантный отряд, имевший в своем распоряжении несколько мелких боевых судов.
Но и этих судов, клоподавов и консервных банок, могло с лихвой хватить на то, чтобы снести с берега пару населенных пунктов. А уж тех, кто останется в живых после такой атаки, мог легко додавить сухопутный полк.
За мужичком, который и в этот раз здорово набрался в базарном шинке, проехали до самой станицы. Там выяснили, что в доме у него проживает красный командир – молодой, длинноногий, привлекательный, с хорошей офицерской выправкой. В командира явно была влюблена хозяйская дочка, круглоликая, с сонными глазами и маленьким ртом, похожая на медлительную озерную рыбу.
Вот от кого мужичок, поставивший на городской базар ранние огурцы и дыньки, почерпнул встревожившие всех сведения – от краскома.
В ту пору была в ходу странная мода – все и вся сокращать, словно бы у революционного народа не хватало времени на произнесение нормальных слов. Краскомами называли красных командиров.
Раз об этом болтал краском, раз сведения проникли в станицу, к людям, значит, в полку дело неладное, что-то там затевается…
Мягков же решил поискать следы в самом городе, опросить людей, которые заняты в сфере обслуживания трудового народа, каждый день встречаются со своими клиентами, разговаривают с ними и в разговорах этих, конечно, могут многое услышать, – с парикмахерами, портными, сапожниками, столярами, плотниками и так далее.
«Не может быть, чтобы какие-нибудь следочки не всплыли… должны всплыть», – думал он, заходя к первому мастеру – одноногому сапожнику Егорычу, живущему недалеко от его дома.
Егорыч, человек угрюмый, малоразговорчивый, только головой покачал отрицательно, да вытянул единственную ногу, размял ее пальцами – затекла, – и вновь принялся прилаживать подошву к поношенному хромовому сапогу.
Вторым по счету шел портной – сын солнечного Кавказа с лысой, круглой, как гимназический глобус, головой, с которой, будто пучки сена, спадали на уши клочья волос.
Увидев коменданта, он проворно выскочил из-за широкого портновского стола, где раскраивал кусок костюмной ткани – нацелился сшить какому-то богатому клиенту пиджак, – раскинул в стороны короткие волосатые руки, чуть ли не по локоть вылезшие из таких же коротких рукавов черного похоронного пиджака.
Удивился Мягков: как же может человек в такую жару ходить в плотном траурном одеянии? Ведь заживо можно спечься.
Белую рубашку портного украшал галстук-бабочка. Модный гражданин, однако, очень модный…
– Заходи, дарагой, – проворковал портной сердечным голосом, – гостем будешь! Может быть, с белой лепешкой, а? Могу и стаканчик хорошего вина налить, а? У меня есть.
– Нет, нет, нет, – выставил перед собой ладони Мягков; в следующее мгновение приподнял одну бровь и неожиданно спросил: – А вино хорошее откуда? Лето же, летом хорошего вина не бывает.
– Бывает, дарагой, еще как бывает, – портной, в свою очередь, также приподнял ладони. Не ладони, а ладошки. Руки у него были маленькие, аккуратные, с короткими, но очень ловкими пальцами. – В горах. С гор мне это вино и привозят.
– Понятно, – Мягков кивнул. Ответ портного его удовлетворил. – Меня вот что интересует, – комендант окинул взглядом стол портного: вдруг на нем обнаружится что-нибудь интересное, но ничего интересного там не было, и Мягков снова удовлетворенно кивнул. По всему выходило, что портной – человек честный, а честным людям бояться нечего и некого: ни пограничников, ни чекистов, ни милиции, ни ревкома. – Скажи, Гоги, не вели ли при тебе посетители какие-нибудь разговоры?.. Ну, такие, скажем откровенно, кривые, – Мягков сложил пальцы в рогульки, покрутил ими в воздухе, – от которых наша с тобою спокойная жизнь в городе зависит. Может, грозились кому-нибудь голову отрезать или взорвать пограничную комендатуру, а? Или деревья на центральной улице города украсить веревками и превратить в виселицы?
Гоги возмущенно покачал большой лысой головой.
– Неужели такие нехристи еще существуют? Не перевелись?
– Не перевелись, Гоги.
– А я-то, наивный, думал, что всех их перебили в Гражданскую войну.
– Да нет. В Ставрополе недавно вон… какие-то белобандиты чуть восстание не подняли. Еле-еле с ними справились.
Портной удрученно поцецекал языком, привычно склонил голову на одно плечо, потом перекинул на другое, лоб его покрылся лесенкой озадаченных морщин.
– Народ ко мне ходит очень миролюбивый, советскую власть не ругает, любит греться на солнышке и есть груши.
– Почему именно груши? – не понял Мягков.
– Потому, что они вкусные.
Интересный вывод. Мягков вытер пальцами потную изнанку фуражки, нахлобучил на голову, козырнул:
– Извини, Гоги, что потревожил.
Лицо портного сделалось самой учтивостью, губы растянулись в вежливой улыбке.
– За что извинять, приходи, дарагой товарищ командир, в любое время, чай и стакан хорошего вина всегда будут ждать тебя. Очень прашу – приходи!
– Приду, Георгий, – пообещал Мягков, аккуратно прикрыл за собою тонкую перекошенную дверь портняжной мастерской.
Улицу заполнила липкая дневная жара, воздух сделался густым, только вот какая штука – к фруктовому запаху улиц добавился запах водорослей и рыбы – с моря дул ветерок. Если бы не он, этот ветерок, жара совсем бы задавила город. Вареный рыбный дух – штука, конечно, тоже неприятная, но все же он лучше лютой, прошибающей до самых костей жары. Мягков поправил на голове фуражку и двинулся дальше.
Он прошел треть квартала и очутился перед крашеной фанерной дверью еще одного сапожника, – по имени Фома, – вислоусого седоголового хохла, человека очень мастеровитого, способного стачать баретки даже мухе, не то, чтобы двуногому «венцу природы», но очень уж молчаливого. Даже более молчаливого, чем первый сапожник, Егорыч. На все вопросы Мягкова Фома только отрицательно качал головой: ничего не видел, мол, ничего не слышал, ничего не знаю…
Вышел от него комендант раздосадованным, взмахивая рукой, проследовал к следующему мастеру, брадобрею Левке Сахарову (настоящая фамилия его была Цукерман, но Лева посчитал, что выносить на жестяную вывеску, украшавшую его заведение, такую фамилию неприлично, и велел написать «Сахаров»). Левка в отличие от двух сапожников был человеком чересчур разговорчивым.
Большие Левкины уши всегда были оттопырены, он слышал все, но проку от этих ушей оказалось мало: ни о крестах, нарисованных на воротах, ни об угрозах, исходивших от неизвестных лиц, он не слышал совершенно ничего и, понимая, что его захлебывающийся, часто прерываемый кашлем говорок не устраивает коменданта, нет в нем никаких сведений, огорченно развел руки в стороны.
– Извыняйте, товарищ командир, – проговорил «Сахаров» на прощание, и Мягков с ощущением невыполненного долга покинул заведение, именуемое в их городке «цырульней».
Ничего не дали также походы ко второму портному, к столяру-краснодеревщику, к плетельщику рыбацких сетей… Раздосадованный Мягков хотел было вернуться в комендатуру, но потом вспомнил, что есть еще платная ворожея бабка Акулина, к ней ведь народ, как в церковь, со всеми своими заботами спешит. Надо заглянуть к бабке.
Акулина очень походила на рождественскую старушку, какую раньше часто изображали на лубочных открытках, – с улыбчивым морщинистым лицом, искристым взглядом и вздернутым, похожим на воронье яичко носом.
Войдя в дом ее, на удивление прохладный в эту лютую жару, Мягков уважительно поклонился – он относился к бабке Акулине с симпатией, знал, бабка побывала в контрразведке Шкуро, ее трясли, даже пытали, избивали плетками, накидывали на голову мешок, сверху – петлю и с воплями волокли к виселице, но потом отпустили, так ничего и не добившись. А подопечные генерала Шкуро знали, чего добивались: Акулина прятала на озерах раненого командира красного полка. Она не выдала его.
– Мое почтение, Акулина Петровна, – Мягков снял с головы фуражку. – Здоровья вам и еще раз здоровья!
– И тебе того же, – бабка улыбнулась широко, и морщины на ее лице разгладились – на глазах помолодела.
Мягков вздохнул, сел на стул, стоявший напротив ворожеи, глянул в бабкины глаза, выцветшие, влажные от усталости и забот, коротко поведал, зачем пришел.
Акулина задумалась. Через минуту покачала головой отрицательно:
– Ничего такого припомнить не могу, ей-богу. Ко мне народ приходит все больше с личными делами, с болезнями, да с просьбой подсобить в урожае, чтоб и хлеб в доме водился, и виноград с морковкой…
– Жаль, бабушка Акулина, – Мягков снова вздохнул, помял фуражку, которую держал в руках, поправил перекосившуюся звездочку на околыше. – Жаль.
– Не обессудь, милок, что не сумела подсобить, – лицо бабкино сделалось виноватым.
– Бандитов надобно найти, а никто из нас не может этого сделать… Пока не может, – поправился комендант. – Вот и хожу я, собираю сведения по крупицам: может быть, кто-нибудь чего-нибудь слышал, что-нибудь видел…
– Все понимаю, но… – ворожея отрицательно покачала головой, – даже ничего близкого не слышала.
– Вам ведь часто изливают свою душу…
– А как же иначе! Особенно, ежели в доме непорядок или болезнь какая-нибудь прицепилась – тут выкладывают все, не стесняясь, откровенно. Иначе из ворожбы получится пшик – карты ничего не скажут, – бабка Акулина снова задумалась на несколько минут, потом оживилась. – Давай-ка я все-таки расскажу тебе, товарищ командир, кто у меня был в последнее время и что мы тут решали…
Ничего интересного в ее рассказе не было – ни одной детали, ни одной зацепки – нич-чего. Мягков поднялся с огорченным видом. Ворожея сожалеющее вздохнула, отерла руками лицо.
Руки у бабки Акулины были натруженными, мозолистыми – работала ворожея не только с картами – у нее был большой огород, кормил и саму бабку, и ее родных.
– Последней ко мне приходила соседка моя Авдюкова Ксюшка, я ее Авдючихой зову. Находится она на сносях, на последнем месяце, а муж ейный служит в Красной армии, дома часто бывать не может.
– Где служит-то, бабусь? – неожиданно заинтересовался этим фактом Мягков.
– Да в Красной армии, – повторила ворожея, блеснула маленькими влажными глазами, – в ей самой…
– А конкретно где?
– В станице, что под городом…
– В Петровской?
– В ей самой. Но как я поняла, две недели назад его перевели сюда, в город. Из-за того, что Авдючиха на сносях – вот-вот ведь опростается.
– И чего говорила Авдючиха?
– Да вначале захлебывалась слезами, а потом, когда успокоилась, сообщила, что муж со своей ротой собирается сегодня ночью производить аресты… И посему ночевать домой не явится. Вот Авдючиха мигом определила глаза на мокрое место, захлюпала носом и примчалась ко мне – интересовалась все: может, у мужика ейного какая-нибудь зазноба завелась, и он решил бросить свою беременную женку?
– Что показали карты, бабусь?
– А чего? Они всю правду показали, без утайки. Поведали честные карты, что никакой зазнобы у него нет, жене он верен и ночью будет заниматься казенными делами. Никаких амуров, словом.
Мягков, естественно, знал, что в городе стоит комендантская рота, подчинявшаяся штабу полка, расквартированного в Петровской – станице, которую чаще называют просто Петровкой, бойцы роты иногда по ночам патрулируют городские улицы, вылавливают заезжих «гоп-стопников», наводят порядок. Но кого доблестные воины собрались арестовывать нынешней ночью, вот вопрос? Этого Мягков не знал. Хотя должен был бы знать.
– Бабусь, не в службу, а в дружбу, сделай вот что…
– Ну!
– Сходи в роту и вызови этого самого Авдюкова.
– Зачем?
– Нужно. Очень нужно, бабусь. Скажи ему, что у жены начались родовые схватки. Лады, а?
– Ну, раз очень нужно, раз роды начались, поручение исполню.
Ворожея исполнила поручение в лучшем виде – вскоре на улице показалась бегущая фигура в солдатской одежде. В беге солдат взмок, пот дождем сыпался на сапоги, пряжка ремня сползла набок, на ремне вольно болтался тяжелый подсумок с винтовочными патронами, сама винтовка, естественно, осталась в казарме. Форменная фуражка сползла на затылок.
– Товарищ Авдюков! – окликнул бегущего Мягков.
Тот вскинулся на бегу, взбил сапогами пыль, от резкого, как у трамвая торможения фуражка съехала с затылка на нос. Увидев командирскую форму Мягкова, красноармеец схватился за ремень, поправил его.
– Извиняйте, товарищ командир, у меня жена рожает.
– Никто у тебя не рожает, Авдюков, – комендант скрестил перед собою руки, – с женой твоей все в порядке, родит, когда подоспеет время.
– А как же… как же…
– Это я тебя вызвал, Авдюков. Очень хочу знать, кого же ты собираешься арестовывать нынешней ночью?
Авдюков вытянулся с готовным вздохом.
– Врагов революции, товарищ командир, – выпалил бодрым голосом.
– Кто такую задачу поставил перед бойцами, Авдюков?
– Командир нашей роты товарищ Ряповский.
– Что еще он сказал?
– Арестовывать будем злейших врагов революции, окопавшихся в ревкоме, в милиции, у вас, погранцов, и так далее.
– И какие же цели преследуют злостные контрреволюционеры?
– Этого я не знаю, товарищ командир, нам не объяснили.
– Не объяснили! – с неожиданной злостью произнес Мягков. – Используют вас, дураков, втемную, хотят вашими руками залить улицы кровью. Тьфу!
Авдюков вытянулся еще больше, он словно бы поднялся над самим собою, захлопал глазами.
– Как это так, товарищ комендант? – оторопело спросил он.
– А вот так… Откуда знаешь, что я пограничный комендант?
– А мы встречались с вами. Я два раза поступал в ваше распоряжение. Для усиления границы. Вы меня не запомнили, а я вас запомнил.
Вместо ответа Мягков махнул рукой.
– Значит, командир роты у вас Ряповский?
– Так точно!
– Из белых, наверное?