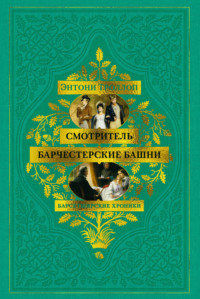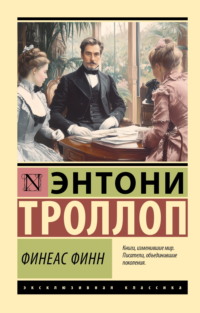Полная версия
Домик в Оллингтоне
– Ах, Бернард! Вы изумили меня.
– Но, надеюсь, Белл, я не оскорбил вас. Я долго думал об этом, но знаю, что мое обращение даже с вами не могло обнаружить моих чувств. Не в моем характере постоянно улыбаться и говорить нежности, подобно Кросби. Несмотря на то, я люблю вас искренно. Я искал себе жену, и думал, что если вы примете мое предложение, то буду весьма счастлив.
Бернард ничего не сказал о своем дяде и восьмистах фунтах годового дохода, но приготовился сделать это, как только представится удобный случай. Он был того мнения, что восемьсот фунтов стерлингов и хорошее расположение богатого человека должны служить сильным побуждением к супружеству, побуждением даже к любви, он нисколько не сомневался, что его кузина будет смотреть на этот предмет с той же точки зрения.
– Вы очень добры ко мне, больше чем добры. Я знаю это. Но, Бернард! Я никак этого не ожидала.
– Дайте же мне ответ, Белл! Или может быть, вам нужно время подумать, переговорить с матерью, в таком случае вы дадите мне ответ завтра.
– Мне кажется, я должна вам отвечать теперь же.
– Только не отказать, Белл. Прежде чем сделать это, подумайте хорошенько. Я должен сказать, что этого брака желает наш дядя и что он устраняет всякое затруднение, которое могло бы встретиться насчет денег.
– О деньгах я не думаю.
– Однако, говоря о Лили, вы сами заметили, что надо быть благоразумным. В нашей женитьбе все будет превосходно устроено. Дядя обещал сейчас же назначить нам…
– Остановитесь, Бернард. Не позволяйте себе думать, что какое-нибудь предложение со стороны дяди поможет вам купить… Нам нет никакой надобности говорить о деньгах.
– Я хотел только познакомить вас с фактами этого дела, как они есть. Что касается до нашего дяди, то я не могу не думать, что вы будете рады иметь его на своей стороне.
– Да, я была бы рада иметь его на моей стороне, если бы намеревалась… Впрочем, желания моего дяди не могут иметь влияния на мою решимость. Дело в том, Бернард…
– В чем же? Скажите, милая Белл.
– Я всегда считала вас за брата и любила как брата.
– Но эту любовь можно изменить.
– Нет, я не думаю, Бернард, я пойду дальше и скажу вам решительно, ее нельзя изменить. Я знаю себя довольно хорошо, чтобы сказать это с уверенностью. Этого быть не может.
– Вы хотите сказать, что не можете полюбить меня?
– Такою любовью, какою бы вы желали. Я люблю вас искренно, совершенно искренно. Я готова явиться к вам с утешением во всякой горести, как я явилась бы к брату.
– Неужели же, Белл, в этом только и должна заключаться вся ваша любовь?
– Разве этого недостаточно, разве эта любовь не имеет своей прелести? Не считайте меня, Бернард, неблагодарною или гордою. Я знаю хорошо, что вы предлагаете мне гораздо более, чем я заслуживаю. Всякая другая девушка гордилась бы таким предложением. Но, милый Бернард…
– Белл, прежде чем вы дадите мне окончательный ответ, подумайте об этом, переговорите с вашей матерью. Конечно, вы были не приготовлены, и я не смею ожидать, чтобы вы обещали мне так много без минутного размышления.
– Я была не приготовлена и потому не отвечала вам как бы следовало. Но так как в объяснении нашем мы зашли довольно далеко, то я не могу позволить себе оставить вас в безызвестности. Нет никакой надобности с моей стороны заставлять вас ждать. В этом деле я знаю свое сердце. Милый Бернард, предложение ваше не может быть принято.
Белл говорила тихо, таким тоном, в котором отзывалась умоляющая покорность, несмотря на то, тон этот сообщал ее кузену уверенность, что она говорила решительно, что эту решительность переменить было бы трудно. Да и то сказать, разве Белл не принадлежала к фамилии Делей? Случалось ли, чтобы Дели переменяли когда-нибудь свое намерение? Бернард несколько времени сидел подле кузины молча, Белл тоже, объявив свое решение, она воздерживалась от дальнейших слов. В течение нескольких минут они не сказали ни слова, глядя на живую изгородь и скрывавшийся за нею ров. Белл сохраняла прежнее свое положение, держа на коленях руки, сложенные одна в другую, Бернард склонился набок, поддерживая рукою свою голову, его лицо, хотя и было обращено к кузине, но глаза пристально смотрели в траву. В течение этого времени он, однако же, не оставался праздным. Ответ кузины хотя и огорчил его, но не нанес удара, который бы решительно поразил его и отнял всякую способность мышления. Ему казалось, что он в жизнь свою не испытывал еще такого огорчения. Умеренное желание приобрести предмет сделалось в нем сильнее, когда ему отказали в приобретении. Впрочем, он был в состоянии рассматривать в настоящем свете свое положение и судить о предстоявших шансах, если будет домогаться руки кузины, и о выгоде, если немедленно оставит это домогательство.
– Я не хочу быть настойчивым, Белл, но могу ли я спросить: если тут оказывается предпочтение…
– Тут нет никакого предпочтения, – отвечала Белл.
И они снова минуты на две оставались безмолвными.
– Дядя мой будет очень сожалеть об этом, – сказал Бернард.
– Если только в этом дело, – возразила Белл, – то, право, я не вижу причины, чтобы нам беспокоиться. Он не имеет и не может иметь ни малейшего права располагать нашими сердцами.
– В ваших словах, Белл, я слышу насмешку.
– Милый Бернард, никакой нет насмешки. Я не думала насмехаться.
– Мне не нужно говорить о моей собственной печали. Вам не понять, до какой степени она должна быть глубока. Зачем бы стал я подвергать себя такому огорчению, если бы тут не участвовало мое сердце? Но я перенесу его, если должен перенести…
И Бернард снова замолчал, посмотрев на кузину.
– Это скоро пройдет, – сказала Белл.
– Я перенесу его без ропота. Но что касается до чувств моего дяди, то я должен говорить откровенно, а вы, мне кажется, должны выслушать без равнодушия. Он всегда был добр до нас обоих и любит нас обоих более всех других живых созданий. Неудивительно поэтому, что он желал нашего брака, и не будет удивительно, если ваш отказ будет для него сильным ударом.
– Мне будет жаль, очень жаль.
– Я тоже буду сожалеть. Теперь я говорю о нем. Наш брак был его искренним желанием, а так как желаний у него очень немного, то он был постоянен в тех из них, которые выражал. Когда он узнает об этом, то переменит свое обращение к нам.
– В таком случае он будет несправедлив.
– Нет, он не захочет быть несправедливым. Он всегда был справедливый человек. Но он будет несчастлив, и несчастье его, я боюсь, отразится на других. Милая Белл, нельзя ли вопрос этот оставить на некоторое время неразрешенным? Вы увидите, что я не воспользуюсь вашим добродушием. Я не буду больше беспокоить вас, положим, в течение недель двух или до отъезда Кросби.
– Нет, нет и нет, – сказала Белл.
– Зачем вы так щедры на эти нет? В такой отсрочке не может быть ни малейшей опасности. Я не буду вас принуждать, вы можете этим заставить дядю думать, что потребовали времени на размышление.
– Есть вещи, Бернард, на которые следует отвечать немедленно. Сомневаясь в самой себе, я позволила бы вам убедить меня. Но я не сомневаюсь в себе, и с моей стороны было бы несправедливо оставлять вас в недоумении. Милый, дорогой Бернард, этого быть не может, а как этого не может быть, то вы, как брат мой, поверите мне, что я говорю откровенно. Этого быть не может.
В то время когда Белл произнесла последний приговор, вблизи их послышались шаги Лили и ее жениха. Бернард и Белл понимали, что разговор их должен прекратиться. Ни тот, ни другая не знали, как им подняться и оставить это место, а между тем каждый чувствовал, что более ничего не может быть сказано.
– Видели ли вы что-нибудь милее, очаровательнее и романтичнее? – сказала Лили, остановившись перед ними и глядя на них. – И они оставались тут во все время, пока мы гуляли и рассуждали о житейских делах. Знаешь ли, Белл, Адольфу кажется, что в Лондоне нам нельзя будет держать поросят. Это меня огорчает.
– Конечно, очень жаль, – сказал Кросби, – тем более что Лили, по-видимому, хорошо знает эту отрасль домашнего хозяйства.
– Разумеется, знаю. Недаром же я провела всю свою жизнь в деревне. Ах, Бернард, как бы я желала, чтобы вы скатились в ров. Оставайтесь в этой позе, и мы поможем вам скатиться.
При этом Бернард встал, встала и Белл, и все четверо отправились к чаю.
Глава IX
СОБРАНИЕ У МИСТРИС ДЕЛЬ
Следующий день был днем собрания. Накануне этого дня вечером между Белл и ее кузеном ни слова больше не было сказано, по крайней мере, не было сказано слова, имевшего какое-нибудь значение, и, когда Кросби предложил своему другу на другое утро сходить в Малый дом и посмотреть, как идут приготовления, Бернард отказался.
– Ты забыл, мой любезный, что я не влюблен, как ты, – сказал он.
– А я так думал, что ты тоже влюблен, – заметил Кросби.
– Нет, по крайней мере, не так влюблен, как ты. Тебе, как жениху, позволят делать все: сбивать крем, настраивать фортепиано, если ты умеешь. А я только думаю еще быть женихом, замышляю вступить в брак по расчету, чтобы угодить дяде, в брак, который ни под каким видом не должен заключать в себе стеснительных условий. Твое положение совершенно противоположно моему.
Говоря все это, капитан Дель, без всякого сомнения, фальшивил, и если фальшивость можно извинить человеку в каком-нибудь положении, то она вполне была извинительна Бернарду при том положении, в котором он находился. Поэтому Кросби отправился в Малый дом один.
– Дель не хотел идти со мной, – сказал он в разговоре с обитательницами Малого дома. – Вероятно, он готовится к танцам на поляне.
– Надеюсь, он будет здесь вечером, – сказала мистрис Дель.
Белл не сказала ни слова. Она положила в душе своей, что при существующих обстоятельствах для кузена ее необходимо было нужно, чтобы его предложение и ее ответ оставались для всех тайной. Она догадывалась, почему Бернард не пришел с своим другом из Большого дома, но ни слова не сказала о своей догадке. Лили посмотрела на нее, но посмотрела молча, что касается до мистрис Дель, то она не обратила ни малейшего внимания на это обстоятельство. Таким образом проведено было вместе несколько часов без дальнейшего упоминания о Бернарде Деле, особливо со стороны Лили и Кросби: они вовсе не замечали его отсутствия.
Мистрис Имс с сыном и дочерью приехали первыми.
– Ах как мило, что вы приехали рано, – сказала Лили, стараясь выразить что-нибудь любезное и приятное, но, в сущности, употребив ту форму изъявления радушия, которая для моего слуха всегда звучит как-то особенно неприятно. «Десятью минутами раньше назначенного времени, а я думала, что вы приедете по крайней мере тридцатью минутами позже»! Так всегда толковал я себе слова, которыми меня благодарили за ранний приезд. Мистрис Имс была добрая, болезненная, невзыскательная женщина, принимавшая всякого рода любезности за искреннее приветствие. Впрочем, и Лили, с своей стороны, ничего больше не думала выразить, кроме любезности.
– Да, мы приехали рано, – сказала мистрис Имс. – Собственно, потому, что Мэри думала зайти в вашу комнату и поправить свои волосы.
– И прекрасно, – сказала Лили, взяв Мэри за руку.
– При том же я знала, что мы вам не помешаем. Джонни может выйти в сад, если там нужно что-нибудь поделать.
– Если ему лучше нравится остаться с нами, нам очень приятно, – сказала мистрис Дель. – А если он находит нас скучными…
Джонни Имс пробормотал, что ему очень хорошо и в гостиной, и вслед за тем занял ближайшее кресло. Он пожал Лили руку, стараясь произнести коротенький спич, нарочно приготовленный им на этот случай. «Я должен поздравить вас, Лили, и от всего сердца выразить надежду, что вы будете счастливы». Слова были довольно просты и с тем вместе выразительны, но бедному молодому человеку не привелось их высказать. Как только слово «поздравляю» достигло слуха Лили, она все поняла – и чистосердечие преднамеренного спича, и причину, почему его не следовало произносить.
– Благодарю вас, Джон, – сказала она, – я надеюсь чаще видеться с вами в Лондоне. Там так приятно иметь вблизи себя старого гествикского друга.
Лили говорила своим голосом и лучше Джонни умела сдерживать биение своего сердца, но и ей при этом случае трудно было вполне владеть своими чувствами. Молодой человек полюбил ее чистосердечно и истинно, продолжал любить ее, выражая свою искреннюю любовь глубокой грустью и сожалением о том, что лишился ее. Скажите, где найдется девушка, которая не будет сочувствовать такой любви и такой грусти, если и та и другая будут так явно обнаруживаться, потому, собственно, что не могут скрыть себя, если будут так определительно высказываться против воли того, кто ими страдает?
Вскоре после Имсов явилась старушка мистрис Харп, коттедж которой находился в несколько шагах от Малого дома. Она всегда называла мистрис Дель «моя милая», любила дочерей ее, как своих собственных. Когда ей объявили о предстоящем замужестве Лили, она с удивлением всплеснула руками, она все еще считала Лили за ребенка, и в одном из уголков ее комода все еще хранились остатки сахарных конфет, купленных для Лили.
– Он лондонец? Хорошо, хорошо. Лучше было бы жить ему в провинции. Восемьсот фунтов в год, моя милая? – говорила она, обращаясь к мистрис Дель. – Это звучит здесь очень приятно, потому что мы все такие бедные. Но я полагаю, что восемьсот фунтов в год не очень много для того, чтобы жить в Лондоне?
– Я думаю, и сквайр придет, не правда ли? – спросила мистрис Харп, располагаясь на софе подле мистрис Дель.
– Да, он будет здесь скоро, если впрочем не отдумает. Ведь вы знаете, он со мной не церемонится.
– Отдумает! Знавали ли вы, чтобы Кристофер Дель когда-нибудь отдумывал?
– Конечно, мистрис Харп, он бывает верен своему слову.
– Да так верен, что если обещал дать кому-нибудь пенни, то непременно даст, а если обещал отнять фунт стерлингов, то отнимет, хотя бы это стоило ему несколько лет времени. Вы знаете, он намерен выгнать меня из моего коттеджа.
– Не может быть, мистрис Харп!
– Да, моя милая, Джолиф приходил объявить мне (Джолиф, надо сказать, был управляющий сквайра), что если мне не нравится коттедж в настоящем его виде, то я могу оставить его, и что сквайр за переправки потребует плату за наем вдвойне. А я только и просила покрасить немного на кухне, где дерево сделалось так черно, как его шляпа.
– Я думаю, что он только хотел, чтобы вы сами окрасили на свой счет.
– Как же я могу сделать это, моя милая, при ста сорока фунтах в год на все и про все? Ведь я должна жить! А он имеет мастеровых при себе каждый день круглый год! И не бессовестно ли присылать мне такое предложение, мне, которая прожила в здешнем приходе пятьдесят лет? А вот и он.
И мистрис Харп при входе сквайра величественно поднялась с своего места.
Вместе с сквайром вошли мистер и мистрис Бойс из пасторского дома с юношей Диком Бойсом и двумя девочками Бойсами четырнадцати- и пятнадцатилетнего возраста. Мистрис Дель, с обычным при таких случаях видом радушия и упрека, спросила, почему не пришли Джен и Чарльз, Флоренс и Бесси. (Бойс имел огромную семью). Мистрис Бойс отвечала на это, что они и без того уже нахлынули на Малый дом как лавина.
– А где же… молодые люди? – спросила Лили, принимая вид притворного удивления.
– Они будут часа через два или три, – сказал сквайр. – Оба они одеты были к обеду, как мне казалось, очень щегольски, но для такого торжественного случая они нашли необходимым одеться еще параднее. Как поживаете, мистрис Харп? Надеюсь, в добром здоровье? Ревматизма нет, э?
Эти вопросы сквайр произносил очень громко, почти в самое ухо мистрис Харп. Мистрис Харп, правда, была немного крепка на ухо, но очень немного, и терпеть не могла, чтобы ее считали глухою. Не любила она также, чтобы ее считали страждущею ревматизмом. Сквайр это знал, и потому приветствие его было далеко не любезно.
– Вам бы не следовало, мистер Дель, доводить меня до лихорадки. Теперь, слава богу, здорова, благодарю вас. Весной было колотье: в этом коттедже ужасно как сквозит! «Удивляюсь, как ты можешь жить в нем», – говорила сестра моя, когда приезжала навестить меня. Я и думаю, что лучше отправиться к ней в Хамершам, только знаете, проживши пятьдесят лет в одном приходе, не всякому хочется переселиться на другое место.
– Пожалуйста, вы и не думайте уезжать от нас, – сказала мистрис Бойс, весьма негромко, протяжно и внятно, надеясь этим угодить старушке.
Но старушка поняла все.
– Мистрис Бойс женщина хитрая, – говорила она с мистрис Дель, перед окончанием вечера. На свете есть старые люди, угодить которым весьма трудно и с которыми, несмотря на то, невозможно почти жить, если им не угождать.
Наконец два героя перешли через поляну и через стекольчатую дверь явились в гостиную, при входе их Лили сделала низкий реверанс, ее светлое кисейное платье пышными складками сложилось на полу, так что Лили казалась роскошным цветком, который вырос на ковре, сложив ладонь на ладонь у пряжки кушака, она произнесла:
– Мы ждем прибытия вашей высокой милости и вполне сознаем, как много обязаны вам за удостоение своим посещением нашей бедной хижины.
Сказав это, она тихо поднялась, улыбаясь, – о, как очаровательно улыбаясь! человеку, которого любила, складки кисейного платья приняли волнистые формы, как будто и они улыбались вместе с нею.
Мне кажется, в мире нет ничего милее преднамеренного, обдуманного изъявления любви девушки к любимому человеку, когда она твердо решилась, чтобы весь свет знал о том, что она всецело отдалась ему.
Не думаю, чтобы все это нравилось Кросби, как бы следовало нравиться. Ему нравилось смелое уверение Лили в любви, когда они бывали вдвоем. И какому человеку не понравились бы подобные уверения при подобных случаях. Впрочем, может статься, ему было бы приятнее, если бы Лили более придерживалась риторической фигуры, известной под именем умолчания, была скрытнее относительно своих чувств в то время, когда их окружали посторонние лица. Он не обвинял ее в недостатке нежности. Он слишком хорошо знал ее характер, был если не совсем непогрешителен в этом знании, то, по крайней мере, слишком близок к этой непогрешительности, чтобы позволить себе против нее подобное обвинение. Такое проявление чувства казалась для него ребяческим и потому не нравилось ему. Ему не хотелось быть представленным, даже оллингтонскому обществу, в качестве жертвы, приготовленной к закланию и связанной лентами, для возложения на жертвенник. Позади всего этого скрывалось чувство, что было бы гораздо лучше без подобного рода манифестаций. Само собою разумеется, все знали, что он женится ни Лили Дель, и разве он, как Кросби говаривал себе довольно часто, позволял себе когда-нибудь думать об отказе от этой женитьбы. Правда, свадьба, по всей вероятности, будет отсрочена. Он не говорил еще об этом с Лили, создав для себя какое-то затруднение в приступе к подобному объяснению. «Я ни в чем не откажу вам, – говорила ему Лили, – только, пожалуйста, не торопитесь». Поэтому он не видел перед собой особенного затруднения и только желал, чтобы Лили воздерживалась от выражений как в словах, так и в обращении, которые, по-видимому, заявляли всему свету, что она намерена выйти замуж немедленно. «Завтра я должен непременно с ней объясниться», – сказал он про себя, выслушав приветствие с тем же притворно-серьезным видом, с каким произнесла его Лили.
Бедная Лили! как мало понимала она, что происходило в душе Кросби! Зная его желание, она бы тщательно завернула любовь свою в салфетку, так что никто бы ее не увидел, никто, кроме него во всякое время, когда бы он ни захотел полюбоваться этим сокровищем. Если она действовала так открыто, то все это делалось собственно для него. Она видала девушек, которые полустыдились своей любви, но она не стыдилась ни своей, ни его любви. Она вполне отдалась ему, и теперь весь свет мог знать об этом, если только весь свет нуждался в подобном сведении. Зачем ей стыдиться того, что, по ее мнению, служило для нее такой большой честью? Она слышала о девушках, которые не хотели говорить о своей любви на том основании, что в мире нет ничего постоянного и верного вообще, а для любви в особенности, от чаши до губ, по пословице, большое расстояние, – упадет она и разобьется. Везде нужна осторожность. Для Лили не представлялось надобности в подобной осторожности! Для нее не могло существовать непостоянства или неверности. Если бы чаша ее и выпала из рук, если бы ей и выпала подобная судьба, вследствие вероломства или несчастья, никакая осторожность не могла бы спасти ее. Упавшая чаша до такой степени раздробилась бы от своего падения, что всякая попытка собрать ее обломки и составить из них снова одно целое была бы невозможна. Никогда этого Лили не высказывала – и смело шла вперед, смело показывала свою любовь, не скрывая ее ни от кого.
После пирожного и чаю, когда прибыл последний из гостей, решено было, что первые два или три танца должны состояться на поляне.
– Ах, Адольф, как я рада его приезду, – сказала Лили, – пожалуйста, полюбите его.
Приезжий этот был не кто другой, как доктор Крофтс, о котором Лили иногда говорила своему жениху, но при этом с его именем никогда не связывала имени своей сестры. Несмотря на то Кросби догадывался, что этот Крофтс или был прежде влюблен, или влюблен в настоящее время, или будет влюблен в Белл, а так как он приготовился защищать притязания по этой части своего друга Деля, то особенно не торопился оказать доктору радушие как самому близкому семейному другу. Он еще ничего не знал о предложении Деля и об отказе Белл и потому приготовился к войне, если бы она оказалась необходимою. Сквайра в настоящую минуту он сильно не жаловал, но если судьба предназначала подарить ему жену из этой фамилии, он лучше бы желал иметь свояком владельца Оллингтона и внука лорда де Геста, чем какого-то сельского врача, как Кросби, в гордости своей, называл доктора Крофтса.
– К несчастью, – сказал он, – я никогда не полюблю такого мужчину, которого считают образцом совершенства.
– Но его вы должны полюбить. И он вовсе не образец совершенства: он, как и все мужчины, курит, ездит на охоту и делает другие негодные вещи.
С этими словами Лили выступила вперед поздороваться с своим другом.
Доктор Крофт сбыл жиденький, худощавый мужчина высокого роста, с блестящими черными глазами, с круглым лицом, с черными, почти кудрявыми волосами, которые, однако же, не выдвигались вперед над его лбом и висками, чтобы дополнить красоту лица, с тонким, хорошо сформированным носом и ртом, который можно бы считать совершенством, если бы губы были немного пополнее. Нижняя часть лица, рассматриваемая отдельно, имела несколько суровое выражение, которое выкупалось, однако же, блеском его глаз. И все же художник непременно бы сказал, что нижние черты его лица были несравненно красивее.
Лили подошла к нему и с особенным радушием поздоровалась, прибавив, что она очень, очень рада его видеть.
– Теперь я должна представить вас мистеру Кросби, – сказала она, решась, по-видимому, выполнить роль свою до конца.
Молодые люди пожали руку друг другу холодно, не сказав ни слова, как это делают обыкновенно молодые люди, когда встречаются при подобных обстоятельствах. Они сейчас же разошлись, к крайнему разочарованию Лили. Кросби стоял отдельно с устремленными в потолок глазами, казалось, что он намерен был держать себя важно, и притом в стороне от других, между тем как Крофтс торопливо подошел к камину, сказав по дороге несколько любезностей мистрис Дель, мистрис Бойс и мистрис Харп. От камина он тихонько пробрался к Белл.
– Мне очень приятно, – сказал он, – поздравить вас с предстоящим браком вашей сестры.
– Да, сказала Белл, – мы знали, что вам приятно будет услышать о ее счастье.
– Действительно приятно, и я вполне надеюсь, что она будет счастлива. Вам всем он нравится, не правда ли?
– Мы все его очень полюбили.
– Мне сказывали, что он в хороших обстоятельствах. Счастливый человек, весьма счастливый, весьма счастливый.
– Конечно, и мы так думаем, – сказала Белл. – Не потому, однако же, что он богат.
– Нет, не потому, что он богат, но потому, что удостоен такого счастья, потому что его обстоятельства доставят ему возможность владеть этим сокровищем и наслаждаться им.
– Да, действительно, – сказала Белл, – совершенно справедливо.
Сказав это, Белл села на стул и с тем вместе положила конец разговору. «Совершенно справедливо», – повторила она про себя. Но едва только выговорила эти слова, как подумала, что это совсем не так, и что доктор Крофтс ошибался. «Мы любим его не потому, что он достаточно богат, чтобы жениться без тревожной мысли, но потому, что он решается жениться, хотя и не богат». Сказав это про себя, Белл рассердилась на доктора.
Доктор Крофтс отошел к дверям и прислонился к стене, засунув большие пальцы своих рук в рукава жилета. Говорили, что он был застенчив. И мне казался он застенчивым, а между тем это был человек, который ни под каким видом не побоялся бы привести в исполнение задуманный план. Он будет смело и много говорить перед целой толпой, все равно, будет ли эти толпа состоять из мужчин или женщин, он был весьма тверд в своих убеждениях, положителен и настойчив в преследовании своей цели, зато он не умел говорить немного, когда, в сущности, говорить было не о чем. Он не умел разыгрывать роль, когда чувствовал, что она для него не годится. Он не изучал науки принимать на себя важный вид, где бы ни случалось ему находиться. Дело другое Кросби, тот вполне изучил эту науку и чрез нее процветал. Поэтому Крофтс удалился к дверям и прислонился к стене, а Кросби выступил вперед и сиял, как Аполлон, между всеми гостями. «Как делает он это?» – говорил про себя Джонни Имс, завидуя совершеннейшему счастью лондонского фешенебельного человека.