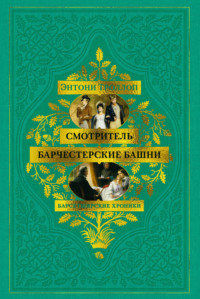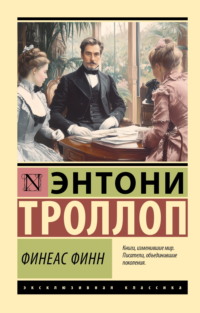Полная версия
Домик в Оллингтоне
Для полноты счастья Лили ничего подобного не представлялось. Ее идеи о деньгах были очень смутны, но с тем вместе и очень основательны. Зная, что у нее их не было, она относила к обязанности мужа найти, что окажется необходимым. Она знала, что у нее не было денег, и потому знала также, что ей не следует ожидать особенной роскоши в небольшом хозяйстве, которое должно быть для нее приготовлено. Она надеялась, собственно, для своего мужа, что дядя сделает какое-нибудь вспомоществование, но в то же время вполне приготовилась к доказательству, что может быть доброй женой и бедного человека. В былые беседы с сестрой своей об этом предмете она всегда заявляла, что для поддержания любви необходимо небольшое состояние. Восемьсот фунтов стерлингов годового дохода считалось более чем достаточным для выполнения этого условия. Белл имела более сентиментальные понятия и отдавала преимущество безусловной прелести нищеты. Она говорила, что в деле любви деньги не должны иметь никакого значения. Полюбив человека, она вышла бы замуж за него даже в таком случае, если бы он вовсе не имел денег. Таковы были их теории относительно денег. Лили была совершенно довольна своим взглядом на этот предмет.
В эти прелестные дни ничто не омрачало ее счастья. Мать и сестра Лили единодушно говорили, что она поступила прекрасно, что она счастлива в своем выборе и безукоризненно верна в своей любви. В тот день, когда Лили рассказала своей матери о своей любви, она блаженствовала от радости, с которой было принято ее признание.
– Ах, мама, я должна вам кое-что сообщить, – сказала она, войдя в спальню матери после продолжительной прогулки с мистером Кросби по оллингтонским полям.
– Верно, что-нибудь о мистере Кросби.
– Да, мама.
И потом все остальное было рассказано не столько словами, сколько нежными объятиями и счастливыми слезами.
В то время, когда Лили, приникнув личиком к плечу матери, высказывала свое признание, в комнату последней вошла Белл и опустилась на колени подле Лили.
– Милая Лили, – говорила она, – если бы ты знала, как я рада!
Лили, вспомнив, что она похитила жениха у своей сестры, обвила руки вокруг шеи Белл и крепко ее поцеловала.
– Я знала ход всего этого дела с самого его начала, – сказала Белл. – Не правда ли мама?
– Я так ничего не знала, – возразила Лили. – Мне об этом и в голову не приходило.
– А мы все знали… мама и я знали.
– Неужели? – спросила Лили.
– Белл говорила мне, что это непременно сбудется, – сказала мистрис Дель. – Сначала, признаюсь, я не могла привыкнуть к мысли, что он достоин моей милочки.
– Ах, мама! Зачем вы это говорите? Он вполне достоин всего на свете.
– Я буду считать его хорошим человеком.
– Да и кто бы мог быть лучше его! Особливо если вы представите себе все, от чего он должен отказаться для меня! Взамен этого что же я-то могу сделать для него? Что могу я подарить ему?
Ни мистрис Дель, ни Белл никак не могли согласиться с этим, думая, что Лили приносила ему в дар совершенно столько же, сколько от него получала. Впрочем, они обе уверяли, что Кросби во всех отношениях был прекраснейший человек, они знали, что подобными уверениями увеличивали счастье Лили, и Лили между ними была совершенно счастлива, ее любви было оказываемо всякого рода поощрение, сочувствие и одобрение матери и сестры служило пищею для ее нежной страсти.
Как некстати этот визит со стороны Джонни Имса! В то время, когда бедный молодой человек выбежал из гостиной, не дав даже времени сказать «прощайте», мистрис Дель и Белл обменялись грустными взглядами, они ничего не могли придумать в оправдание такой поспешности, потому что Лили, перебежав через поляну, стояла уже перед открытым окном.
– Мы подошли к окраине кустарников, – сказала она, – и услышали, что вблизи нас находятся дядя Кристофер и Бернард; я сказала Адольфу, чтобы шел к ним один.
– А как ты думаешь, кто был здесь? – спросила Белл.
Мистрис Дель не сказала ни слова. Если бы было еще время немного подумать, то, может быть, в эту минуту не было бы и помину о визите Джонни.
– Неужели без меня кто-нибудь был? – спросила Лили. – Кто же это такой торопливый гость?
– Бедный Джонни Имс, – сказала Белл.
На лицо Лили выступил яркий румянец, в один момент она вспомнила, что старый друг молодых ее дней любил ее, что он, в свою очередь, имел надежды на ее любовь и что теперь услышал вести, которые должны были разрушить эти надежды. Она все сообразила в один момент, как сообразила и то, что ей необходимо скрыть происходившее в ее душе.
– Милый Джонни! – сказала она. – Зачем же он не подождал меня?
– Мы сказали, что ты вышла, – отвечала мистрис Дель. – Без сомнения, он скоро опять будет сюда.
– И он знает?
– Да, я объявила, думая, что ты не рассердишься на это.
– Нет, мама, конечно нет. И он уехал назад, в Гествик?
На этот вопрос не было ответа, да и вообще, после него о Джонни Имс ничего больше не было говорено. Каждая из этих женщин вполне понимала, в чем дело, и каждая знала, что понятия других были совершенно одинаковы. Молодой человек был всеми ими любим, хотя и не той любовью, которая была теперь сосредоточена на мистере Кросби. Джонни Имс не мог быть принимаем в доме как молодой человек, ищущий руки любимого в семействе создания. Мистрис Дель и дочь ее Белл очень хорошо это знали. Они любили его за его любовь и за то спокойное, скромное уважение, которое удерживало его от выражения этого чувства. Бедный Джонни! Впрочем, он еще молод, он только что вышел из поры юношества и, следовательно, легко мог перенести этот удар. Так думают женщины о мужчинах, которые любят в молодых своих годах, и любят напрасно.
Между тем Джонни Имс, возвращаясь в Гествик, забыл о шпорах и лайковых перчатках, засунутых в карман, он думал о своем положении совсем иначе. Он никогда не обещал себе успеха в любви своей к Лили и действительно всегда сознавался, что не мог иметь на это никакой надежды, но теперь, когда Лили обещана была другому, была невестой другого, он, тем не менее, сокрушался, что его прежние надежды не распространялись так далеко. Он никогда не решался говорить Лили о своей любви, в полной уверенности, что она знала это, и потому теперь не смел показаться перед ней как обличенный в напрасной любви. Потом он вспомнил о другой своей любви, вспомнил не без тех приятных размышлений, которым с таким удовольствием предавались донжуаны при созерцании своих успехов. «Положим, я женюсь на ней, и тогда конец со мной», – сказал он про себя, вспомнив хорошенькую записочку, написанную им однажды в припадке сумасбродства. В доме мистрис Ропер был небольшой ужин, мистрис Люпекс и Амелия приготовляли пунш. После ужина он по какому-то случаю остался в столовой наедине с Амелией, и тогда, разгоряченный щедрым богом, признался в своей страсти, Амелия печально покачала головой и побежала в верхние апартаменты, положительно отвергнув его распростертые объятия. Но в тот же вечер, прежде чем голова Джонни склонилась на полушку, к нему пришла записочка, написанная тоном полусожаления, полулюбви, полуупрека. «Если вы поклянетесь мне, что ваша любовь честная и благородная, тогда, быть может, я еще… загляну в щелку дверей, чтоб показать, что я вас простила». Коварный карандаш лежал под рукой, и Джонни написал требуемые слова: «У меня единственная цель в жизни – называть вас моею навсегда». Амелия сомневалась в подобном обещании, потому что оно написано было не чернилами и, в случае надобности, не могло иметь законной силы. Сомнение было тяжелое, несмотря на то, она была верна своему слову и взглянула на Джонни в полурастворенную дверь, простила его за исступление, быть может, с большим милосердием, чем требовало того обыкновенное извинение. «Боже! как хороша она с распущенными волосами!» – сказал Джонни про себя, склонившись наконец на подушку и все еще разгоряченный дарами Бахуса. Но теперь, когда он, возвращаясь из Оллингтона в Гествик, вспомнил об этой ночи, распущенные волнистые локоны Амелии потеряли для него всю свою прелесть. Он припомнил и Лили Дель, когда она прощалась с ним накануне его первого отъезда в Лондон. «Одних вас я только и желал бы видеть!» – сказал он и впоследствии часто вспоминал эти слова, старался разгадать, не приняла ли она значения их более чем за уверение обыкновенной дружбы. Он припоминал даже платье, в которое она была одета в тот день. Это было старое коричневое мериносовое платье, которое знакомо было ему и прежде и которое, по правде оказать, ничего не имело в себе особенного, чтобы произвести впечатление. «Ужасное старье!» – вот приговор, который произносила над этим платьем сама Лили, даже раньше дня разлуки. Но в глазах Джонни оно было священно, он был бы счастливейшим человеком, получив лоскуток от него, чтобы носить на сердце как талисман. Как удивительна бывает страсть, о которой говорят мужчины, сознаваясь себе, что они влюблены. При одних условиях это самая грязная, при других – самая чистейшая вещь из всех вещей в мире. При этих различных условиях человек показывает себя или зверем или богом! Пусть же бедный Джонни Имс едет по своей дороге в Гествик, душевно страдая от сознания, что любовь его низка, и в то же время страдая не менее того от сознания, что любовь его благородна.
В то время как Лили весело пробиралась между кустарниками, опираясь на руку своего жениха и беспрестанно заглядывая ему в лицо, она завидела еще издали дядю своего и Бернарда.
– Остановитесь, – сказала она, нежно вынимая руку из-под руки Кросби, – я дальше не пойду. Дядя всегда надоедает мне своими обветшалыми остротами, притом же я сегодня много гуляла. Не забудьте же, что завтра, перед отправлением на охоту, вы придете к мама.
И Лили воротилась домой.
Здесь будет кстати познакомить читателя с разговором, который происходил между дядей и племянником, во время их прогулки по широкой песчаной дорожке позади Большого дома.
– Бернард, – говорил старик, – я бы желал, чтобы дело между тобой и Белл было покончено.
– Разве требуется поспешность?
– Да, требуется, или, вернее сказать, ведь я враг всякой поспешности, есть основание поторопиться. Помни, однако же, я тебя не принуждаю. Если тебе не нравится кузина, скажи.
– Она мне нравится, только я такого мнения, что дела подобного рода вырабатываются постепенно. Я вполне разделяю ваше нерасположение к поспешности.
– Теперь, однако же, прошло порядочно времени. Дело вот в чем, Бернард, я намерен пожертвовать для тебя большей долей моего годового дохода.
– Как нельзя более признателен вам.
– У меня нет детей, и поэтому я всегда считал тебя моим сыном. С другой стороны, я не вижу ни малейшей причины, почему бы дочери моего брата Филиппа не быть так же близкой моему сердцу, как и сыну моего брата Орландо.
– Тут не может быть никого сомнения, даже обе дочери могут быть близкими к вашему сердцу.
– Бернард, предоставь мне судить об этом. Младшая сестра выходит замуж за твоего друга, который имеет достаточные средства для содержания своей жены, и потому, я думаю, невестка моя должна быть очень довольна этой партией. Ей не придется отделять какой-либо части от своего дохода, что она должна была бы сделать, если бы Лили выходила замуж за бедняка.
– Я полагаю, едва ли она в состоянии дать многое.
– Люди должны соображаться с обстоятельствами. Я не намерен заступить для них обеих место отца. Нет никакой причины к этому, и я не хочу поощрять ложные надежды. Я был бы совершенно доволен своим образом действий, если бы знал, что дело твое с Белл покончено.
Из всего этого Бернард начал замечать, что ожидания бедного Кросби, относительно приданого от дяди, не осуществятся. Он заметил также – или подумал, что заметил, – некоторую угрозу в словах дяди. Эти слова, по-видимому, выражали предостережение: «Я обещался тебе, когда женишься, восемьсот фунтов в год. Но если ты не примешь их немедленно или не дашь мне понять, что они будут приняты, то, может статься, намерение мое переменится, особливо теперь, когда выходит замуж другая невестка. Если я отделю тебе с Белл такую большую часть моего дохода, то для Лили ничего нельзя будет сделать. Но если ты хочешь жениться на Белл, тогда…» И так далее. Так по крайней мере объяснял себе Бернард слова своего дяди, прогуливаясь с ним по широкой песчаной дорожке.
– Я не хочу откладывать это дело дальше и немедленно сделаю предложение Белл, если вы желаете, – сказал Бернард.
– Если ты решился, то я не вижу причины, почему бы тебе медлить.
Разговор на этом кончился, дядя и племянник встретили своего будущего родственника с веселыми улыбками и ласковыми словами.
Глава VII
НАЧАЛО ЗАБОТ И ЗАТРУДНЕНИЙ
Лили, как мы уже знаем, прощаясь в саду с женихом, просила его – или, что то же, приказывала ему, – чтобы он на другое утро, перед отправлением на охоту, навестил ее. Исполняя это приказание, мистер Кросби после чаю явился на поляне мистрис Дель, сопровождаемый Бернардом и двумя собаками. Мужчины имели ружья в руках, на них надеты были охотничьи принадлежности, но случилось так, что раньше завтрака они не могли добраться до жнива, находившегося в некотором расстояния от дороги. Выходит, что для влюбленного человека крикет едва ли не имеет лучшей прелести, чем охота с ружьем.
Нам, пожалуй, заметят, что Бернард Дель не был влюблен, но тот, кто заявит такое обвинение, заявит его ложно. Бернард был влюблен в Белл согласно своему понятию о любви. Не в его натуре было любить Белл так, как Джонни Имс любил Лили, и чрез это собственно он не был поставлен в такое затруднительное положение, в какое чарующие прелести Амелии Ропер поставили нашего бедного клерка из управлении сбора государственных доходов. Джонни, употребляя принятое выражение, был восприимчив, между тем как чувства капитана Деля подчинялись некоторому контролю. Его нельзя было присоединить к числу мужчин, которые сходили с ума от любимой девушки или умирали с сокрушенным сердцем, но, несмотря на то, он, по всей вероятности, женившись, полюбил бы жену свою и был бы попечительным отцом своих детей.
В настоящее время, крепкие узы дружбы связывали между собою эти четыре лица. Бернард и Адольф, или иногда Аполлон, Белл, Лили – все это так нравилось Кросби. Для него наступил новый образ жизни, полный удовольствия, несмотря на то, на него находили минуты грустного раздумья. В это самое время он делал то, чего он во время зрелого уже возраста давал себе обещание никогда не делать. По составленному им заблаговременно плану жизни он всячески должен был избегать женитьбы и позволял себе считать ее событием, возможным только в таком случае, если оно будет сопровождаться богатствами, почестями и красотою. А так как он не надеялся овладеть таким роскошным призом, то считал себя человеком, который до конца своей жизни должен господствовать в клубе Бофорт или быть могущественным в клубе Себрэйт. Но теперь…
Дело в том, что он упал с своего пьедестала, был побежден серебристым голосом, милым остроумием и парою умеренно блестящих глаз. Он страстно полюбил Лили Дель, обладая, по всей вероятности, более сильною способностью влюбляться, чем друг его, капитан Дель, но стоило ли это того, чтобы принести себя в жертву? Этот-то вопрос и задавал себе Кросби в минуты грустного раздумья, он задавал его вечером, когда ложился в постель, утром, когда просыпался, когда брился, и иногда после обеда, когда сквайр бывал более обыкновенного прозаичен. В такие минуты, как последние, он слушал мистера Деля и в то же время в душе делал себе горькие упреки. К чему он должен переносить это, он, Кросби, который служит в генеральной комиссии, Кросби, который никому не позволит принудить себя жить между Черинг-Кроссом и отдаленным концом Бэйсватера, к чему он должен выслушивать нескончаемые история такого человека, как сквайр Дель? Если сквайр намерен наградить свою племянницу, тогда другое дело. Но сквайр не подавал ни малейшего вида подобного намерения, и Кросби сердился на себя, что не имел настолько присутствия духа, чтобы предложить вопрос по этому предмету.
Таким образом, течение любви у нашего Аполлона было не совсем-то гладко. Она доставляла ему удовольствие, когда он играл в крикет на поляне или сидел в гостиной мистрис Дель со всеми привилегиями нареченного жениха. Она доставляла ему также удовольствие, когда он сидел за лафитом сквайра, зная, что скоро подаст ему чашку кофе очаровательная девушка, которая почти бегом перебежала два сада, чтобы исполнить для него эту обязанность. Ничего не может быть приятнее этого, хотя бы человек, с которым так обходятся, и сознавал, что он похож на тельца, положенного на жертвенник, готового к закланию, с голубыми лентами на рогах и на шее. Кросби чувствовал, что он действительно похож на такого тельца, тем более что у него не доставало смелости спросить о состоянии будущей своей жены. «Сегодня же вечером я выпытаю это от старого», – говорил он самому себе, застегивая поутру свои щегольские охотничьи штиблеты.
– Как хорош он в этих штиблетах, – говорила впоследствии Лили своей сестре, ничего не зная о мыслях, которые тревожили жениха ее в то время, когда он украшал свои ноги.
– Я полагаю, мы будем возвращаться этой же дорогой, – сказал Кросби, приготовляясь, по окончании завтрака, двинуться в путь к своим занятиям.
– Ну, не совсем! – отвечал Бернард. – Мы обойдем вокруг фермы Дарвеля и воротимся через ферму Груддока. А разве кузины не обедают сегодня в Большом доме?
Кузины отвечали отрицательно, прибавив, что они не намерены даже и вечером быть в Большом доме.
– В таком случае, если вы не хотите одеваться, то могли бы встретить нас у ворот Груддока, позади фермы. Мы будем там аккуратно в половине шестого.
– То есть мы должны быть там в половине шестого и прождать вас три четверти часа, – сказала Лили.
Несмотря на то, предложение было принято, и кузины Бернарда охотно согласились его выполнить. Так устраиваются встречи между неприхотливыми жителями провинции. Ворота на задворках фермера Груддока как-то дурно звучат, в романе о таких местах не следовало бы говорить, но для молодых людей, стремившихся к предположенной цели, эти задворки имели такую же прелесть, как тенистый столетний дуб в прогалине леса. Лили Дель стремилась к своей цели, точно так же и Адольф Кросби, только его цель начинала помрачаться, как это случается с многими предметами в сей плачевной юдоли. Для Лили все представлялось в розовом свете. Бернард Дель тоже горячо стремился к своей цели. В это утро он особенно близко стоял подле Белл на поляне и думал, что, вероятно, она не отвергнет его любви, когда он признается в ней. И зачем ей отвергнуть? Счастлива должна, быть девушка, к платью которой пришпилят восемьсот фунтов годового дохода!
– Послушай, Дель, – сказал Кросби. В это время оба охотника, выходя с мест, где надеялись найти дичи, подошли к полю Груддока и прислонились к воротам. Кросби во время перехода последних двух миль не говорил ни слова, приготовляясь к следующему разговору. – Послушай, Дель, твой дядя до сих пор не сказал мне ни слова о приданом Лили. Неужели он думает, что я намерен взять ее без ничего? Твой дядя – человек опытный, он знает…
– Опытный ли человек мой дядя или нет, я не скажу, но ты, Кросби, сам опытен. Лили, как тебе всегда было известно, ничего своего не имеет.
– Я не говорю о том, что есть у Лили. Я говорю о ее дяде. Я всегда был откровенен с ним и, влюбившись в твою кузину, тотчас объявил свои виды.
– Тебе бы следовало спросить его, если ты считал подобный вопрос необходимым.
– Если считал подобный вопрос необходимым! Клянусь честью, ты, Бернард, холодный человек.
– Послушай, Кросби, ты можешь говорить, что хочешь о моем дяде, но не должен говорить слова против Лили.
– Кто же намерен говорить что-нибудь против нее? Ты еще мало понимаешь меня, если не знаешь, что я больше твоего должен заботиться о защите ее имени от всяких нареканий, я считаю ее за самую близкую родную.
– Я хотел только оказать, что всякое неудовольствие, которое ты можешь испытывать относительно ее приданого, ты должен обращать на моего дядю, а отнюдь не на семейство в Малом доме.
– Я очень хорошо это знаю.
– И хотя ты можешь говорить что угодно о моем дяде, но я не вижу причины, по которой бы его можно было обвинять.
– Он должен был сказать мне, на что Лили может рассчитывать!
– А если ей ни на что нельзя рассчитывать? Дядя мой, кажется, не обязан рассказывать всякому, что он не намерен дать своей племяннице какое-нибудь приданое. Да и в самом деле, почему ты полагаешь, что у него есть подобное намерение?
– А разве ты знаешь, что у него нет его? Ведь ты же сам почти уверил меня, что он даст денег своей племяннице.
– Кросби, нам необходимо понять друг друга в этом отношении…
– Разве ты не уверял меня?
– Выслушай меня. Я не говорил тебе ни слова о намерениях дяди до тех пор, пока ты не сделал предложения Лили, с ведома всех нас. После того когда я уверился, что мое мнение по этому предмету не могло сделать перемены в твоем образе действий, я сказал, что, может статься, дядя что-нибудь для нее сделает. Я сказал это потому, что так думал, и, как твой друг, я должен был высказать свое мнение во всяком деле, которое касается твоих интересов.
– А теперь ты переменил свое мнение?
– Да, переменил, но, весьма вероятно, без достаточного основания.
– Как это жестоко!
– Конечно, очень неприятно быть обманутым в своих ожиданиях, но ты не можешь сказать, что с тобой поступили неблагородно.
– И ты думаешь, что он ничего ей не даст?
– Ничего такого, что было бы для тебя очень важно.
– Неужели же я не могу сказать, что это жестоко? Я думаю, это чертовски жестоко. Придется отложить на время женитьбу.
– Почему ты сам не поговоришь с моим дядей?
– Поговорю, непременно. Сказать тебе правду, я ожидал от него лучшего, но, конечно, это были одни ожидания. Я откровенно ему выскажу все, и если он рассердится, тогда придется мне оставить его дом, тем дело и кончится.
– Послушай, Кросби, не начинай разговора с намерением рассердить его. Дядя мой не злой человек, он только очень упрям.
– Но ведь и я могу быть таким же упрямым, как он.
Разговор прекратился, и друзья пошли по полю, засеянному репой, сетуя на счастье, не доставившее им случая набить дичи. Бывают иногда такие минуты настроения души, в которые человек не в состоянии ни ездить верхом, ни охотиться, ни делать верные удары на бильярде, ни помнить карты в висте, – в таком точно настроении духа находились Кросби и Дель после разговора у ворот.
Несмотря на свою пунктуальность, они опоздали прийти на место свидания минутами пятнадцатью, девицы явились раньше их. Само собою разумеется, первые осведомления были сделаны о дичи, и, тоже само собою разумеется, джентльмены отвечали, что птицы теперь меньше, чем бывало прежде, что собаки сделались какими-то дикими и что счастье охотников было невыносимо дурно. На все эти доводы, конечно, не было обращено ни малейшего внимания. Лили и Белл пришли не за тем, чтобы узнать о числе убитых куропаток, и, право, простили бы охотникам, если бы те не убили даже ни одной птицы, но они не могли простить недостатка веселости, который был очевиден.
– Не знаю, что с вами сделалось, – сказала Лили своему жениху.
– Выходили больше пятнадцати миль и…
– Я никогда не знала людей изнеженнее вас, лондонских джентльменов. Пятнадцать миль! Для дяди Кристофера это ничего не значит!
– Дядя Кристофер выткан из более суровой материи, чем мы, – отвечал Кросби. – Такие люди являлись на свет лет шестьдесят или семьдесят тому назад.
И молодые люди пошли через поле Груддока, через пажити оллингтонской усадьбы к Большому дому, где сквайр стоял на площадке переднего подъезда.
Прогулка далеко не имела тех удовольствий, которые обещала она, когда составлялись ее планы. Кросби старался возвратить свое счастливое настроение духа, но старания его оставались безуспешны. Лили, замечая, что ее нареченный совсем не то, чем бы ему следовало быть, сделалась необыкновенно унылою и молчаливой. Бернард и Белл не разделяли этого уныния, впрочем Бернард и Белл, по обыкновению, всегда были преданы молчанию более, чем другая пара.
– Дядя, – сказала Лили, – эти господа ничего не застрелили, и вследствие этого вы не можете себе представить, какими они кажутся несчастными. Всему виной эти негодные куропатки.
– Куропаток у нас много, только надобно уметь их выследить, – сказал сквайр.
– Виноваты собаки, которые ужасно горячатся, – сказал Кросби.
– При мне они не горячатся, – заметил сквайр. – Не горячатся они и при Дингльсе. – Дингльс был главный егермейстер и смотритель дичи. – Дело в том, молодые люди, вы верно хотите, чтобы собаки исполняли за вас всю работу. Для вас, я вижу, большого труда стоит походить да поискать хорошенько дичи. Однако, мои милые, вы опоздаете к обеду, если не поторопитесь.