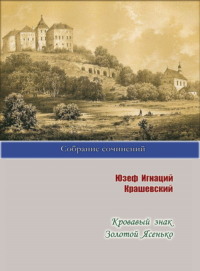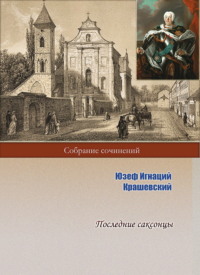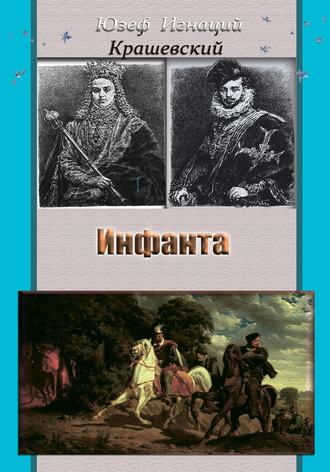
Полная версия
Инфанта (Анна Ягеллонка)
Из вопросов, которые задавал хозяин, он сделал вывод, что некогда тот бывал в Польше и хорошо её знал.
С чем и зачем сюда прибыл, Барвинек также не мог отгадать и вытянуть из него. Человек был довольно немолодой, седеющий, с загорелым и морщинистым лицом, марсового облика, рыцарской осанки и привычек. И он, и слуги выглядели по-солдатски, а дисциплина среди челяди была большой.
Возле этого Немечковского всё выглядело вполне богато, ни на себя, ни для людей не скупился; но что он тут делал, почему пребывал – в этом был сук для Барвинка.
Он утешался только тем, что рано или поздно должен постичь эту тайну. С утра путешественник выходил обычно в город, и хотя хозяин следил за ним, не мог понять, где он пребывал в течении целого дня. Не с радостью вдавался в разговоры и за язык тянуть не позволял.
Знал Барвинек, что и в замке бывал этот Немечковский, но у кого? Не мог постичь…
Самой большой загадкой была его речь, в которой временами звучала самая отличная полчишна, то снова выражений и слов вдруг не хватало, так что был вынужден пользоваться немецкими.
Чтобы так поляк переоделся в немца – это не укладывалось в голове Барвинка. Знал он много таких, что в службе у императора, у короля римского, у княгини Брунсвицкой бывали, ба, даже в Швеции на протяжении долгих лет с принцессой Екатериной прожили, а языка собственного ещё не забыли и, ступив на родную землю, лёгкость произношения сразу восстанавливали.
Немечковский же уже сегодня лучше и легче выражался по-немецки, чем по-польски, следовательно, по мнению Барвинка, поляком он быть не мог.
На пятый день пребывания этого загадочного путешественника в постоялом дворе «Под белым конём», хозяин немало удивился, когда утром увидел знакомого ему ротмистра Белинского, входящего и спрашивающего непосредственно о Немечковском.
Он наткнулся с этим вопросом на самого Барвинка, который, низко поклонившись, с ловкостью этим воспользовался и спросил:
– У нас тут только есть Ritter von Nemetsch! Может он быть поляком Немечковским?
Белинский громко рассмеялся.
Уж никто иной, как польский шляхтич Немечковский.
– Ну, прошу! – ответил Барвинек. – И настолько забыл родной язык!!
– Ба! – воскликнул Белинский. – Что за диво, когда, быть может, в течении двадцати с небольшим лет немцам и императору служил, не знаю, раз в год пользовался ли он святой исповедью!!
Записал это себе в памяти Барвинек и с тем большим любопытством присматривался к своему гостю.
Ротмистр в этот день пошёл искать бывшего знакомого аж в комнату на чердаке, и там между ними завязался следующий разговор.
Немечковский поначалу говорил тяжело и ломаной полчишной, только когда разговорился с Белинским, речь потекла у него всё легче.
На пороге они обнялись.
– То-то мне только гость, – сказал Белинский. – Когда-то мы из глаз тебя потеряли, а потом было глухо, словно в воду канул, в самом деле, мы все тебя оплакивали. Ведь это тому…
– Двадцать семь лет, – прервал Немечковский. – Молодая королева Элжбета тогда, упрошенная с. п. гетманом Тарновским, дала мне рекомендательные письма к императору для войны с Францией. Я хотел к рыцарскому ремеслу чужеземцев приглядеться и не мечтал там загнездиться.
Император Карл V принял меня как нельзя лучше и дал место в войске. Правда, что поначалу было тяжко и с речью, и с обычаем освоиться, и ради них наломаться, но молодой был и жадный до учения, а всё войско, хотя бы даже их ланцкнехты, так отличалось от нашего, что желало принести мне пользу, дабы что-нибудь домой привезти. Итак, я начал с их оружия, с одежды, с доспехов и, на удивление, мне посчастливилось…
Люди также полюбили меня от того, что был запальчивый и весёлый…
Что же скажете? Из года в год как-то с ними сжился, а в доме из семьи никого не было, засиделся аж по сию пору.
Немечковский опустил вдруг глаза и заколебался, словно ему нелегко было в чём-то признаться.
– Немного в том и бабская хитрость была повинна, – добавил он, – полюбил в Вене девушку и должен был жениться…
Белинский фыркнул.
– Я догадался, – сказал он, – иначе там бы не выдержал так долго.
– А! Красавица это была, красавица, кровь с молоком! Весёлая и умная, – говорил Немечковский, – опутала меня… Божий свет над её душой, потому что она уже не живёт. Только после смерти жены затосковал по родному краю, хотя в нём никого уже не имею.
Помните, ротмистр, молодыми мы оба были… двадцать семь лет… король Сигизмунд правил ещё… королева Элжбета жила… Как тут у вас в Польше всё изменилось! Ничего не понимаю, никого не знаю… В то время, когда ехал на двор Карла V, наш Сигизмунд Старый болел и скорую его кончину предсказывали, а теперь Август, слышу, также без надежды на жизнь… и без потомства!
Онемеченный шляхтич повёл глазами по задумчивому ротмистру, словно хотел угадать его ответ, и прервал, ожидая; но Белинскому печаль не дала быстро прийти к слову.
Они молчали так добрую минуту. Ротмистр поднял голову.
– Слушай-ка, Немечковский, – не скрывай от меня. Двадцать семь лет не был у нас и не срочно тебе было, а теперь охота пришла. Признайся открыто… выслали тебя на разведку? Император имеет великий аппетит на Польшу?
Немечковский так яростно дёрнулся, услышав этот вопрос, словно в него ударила молния; он стоял почти ошеломлённый.
– Во имя Отца и Сына! Кто же это поведал? – крикнул он.
Белинский смеялся.
– Никто не говорил, но я тебя в этом подозреваю, – сказал он. – Тут много разных людей крутится и от шведа, и от императора, и от французов, а в Литве от царя. Император имеет у нас много своих… естественная вещь была бы, если для себя хотел получить выгоду.
Пан Сигизмунд (такого было имя Немечковского), не отвечая, закусил усы; в лице было видно какое-то колебание и страх.
– Куда бы снова такого маленького человека, как я, собирались посылать, – сказал он, – ни на много бы им пригодилось. Но я столько лет служил императорам, насмотрелся на их мощь, что сам собой, если бы мог, готов бы им помогать по доброй воле. Следовательно, как тут обстоят дела, ротмистр?
Белинский, смеясь, похлопал его по плечу.
– Ну, ну, – сказал он, – больше я не хочу знать. Что до императорских заигрываний с нашей короной, я немного знаю об этих вещах. Есть тут достаточно могущественных панов, что сторонники императора; правда, будут такие, что его за деньги захотят поддерживать, но шляхта боится. В Венгрии и в Чехии немцы хорошо ограничили свободы и привилегии, а мы о своих заботимся. Если бы даже кого хотели выбирать из родни, сперва должен был бы жениться на нашей принцессе, а во-вторых… хорошо бы его укрепили, чтобы нам absolutum dominium не вводил.
Шляхта не любит немца…
Немечковский заинтересованно слушал.
– Но для обороны от турок и москаля, – сказал он, – сила императора очень бы нам пригодилась…
– До сих пор мы без неё обходились, – ответил Белинский.
– Кто же ещё сватался к короне? – спустя мгновение, начал Немечковский.
– Говорят о французе, – сказал Белинский, – а тот будто бы имеет не меньшую силу, чем император, и не грозный. Прусский родственный князь тоже рад быть выбранным. Литва хотела бы царя, но, по-видимому, раздумает… Имеются такие, что о младшем сыне короля шведского, рождённому от нашей принцессы, намекают…
Кто может отгадать будущее, однако же король живёт…
– Но ему жизнь не обещают? – спросил Немечковский.
– Очень плохо, – начал ротмистр. – Несчастный господин из-за бабы попал и в болезнь, и в такое состояние, что ему жизть не хочется. Сегодня или завтра завещание велит писать и запечатать.
Белинский опёрся на руки и вытер слезу.
– В завещании он мог бы выразить желание о приемнике? – вставил Немечковский.
– Не знаю, сдалось ли бы это на что, – продолжал дальше Белинский, – и меньше, чем кому-нибудь, императору, потому что из-за принцессы предубеждение к нему имеет. Повторяет, что умирает без наследника, когда ему вовремя развестись с женой не дали.
Немечковский внимательно слушал, не отвечал ничего и разговор казался исчерпанным, когда стоявший перед Белинским снова спросил:
– Не слышали вы тут что-нибудь о Гастальди?
Ротмистр пожал плечами.
– Каком? Том, что воспитывался на нашем дворе?
– Думаю, что именно он и есть, так как второго такого не знаю, – сказал пан Сигизмунд. – Нет его здесь?
– Ничего не знаю о нём.
Снова какое-то время разговор не шёл. Немечковский присел на тарчане.
– Всё я тут, – сказал он, – у вас иначе нахожу, нежели ожидал. Говорили в Вене, что император имеет могущественных сторонников в Польше и почти уверен в выборе. Тут же, кого спрошу, о ком намекну, слушать о нём не хочет. Я считал, что вам на что пригожусь, так как сжился со многими придворными, господами и рыцарством.
– Но всё это слишком преждевременно, – прервал Белинский. – Король жив, Бог может дать, что выкарабкается.
Таким образом прерываемый разговор продолжался ещё какое-то время, когда ротмистр спросил Немечковского, долго ли он думал здесь находиться и какая была настоящая цель путешествия, ежели тут не думал осесть.
– Сам не знаю, – проговорил Немечковский, – родня у меня далеко, которая меня не знает и я её тоже. Я хотел рассмотреться на родине на случай, если бы император имел тут какую-нибудь надежду.
– И выбрался в плохую годину, – прибавил Белинский, – когда эпидемия уже в Варшаву заглядывает и по стране распространяется. В любую минуту мы с королём отсюда выдвигаемся.
– Куда?
– Не знаю, к Литве, наверное, – говорил Белинский.
– А принцесса? – изучал Немечковский.
– Её также отправят, но, вероятно, не туда, где будет король, – сказал ротмистр. – Те, что находятся при нашем пане, не рады, чтобы на их деяния вблизи смотрели.
Говоря это, Белинский встал.
– Мне тут у тебя в этой комнате под крышей до чёрта душно, или ты со мной выйдешь отсюда, или я один должен в замок идти.
– Возьмёте меня с собой? – спросил, колеблясь, гость.
– Почему бы нет, – улыбнулся Белинский. – Это будет наилучший способ убедить тебя, как тут смотрят на императорских, когда тебя по одежде и речи за одного из них примут.
Зигмунд, услышав это, заколебался.
– Ежели так, – ответил он, – я предпочитаю остаться на постоялом дворе.
– У меня есть комната в замке, – добавил Белинский, – пойдёшь ко мне. Приехал рассмотреться, а на постоялом дворе только челядь встретишь, у меня всегда кто-нибудь найдётся. Хотя бы те, что не по вкусу пришлись бы, лучше, чтобы ты не ошибался.
Тогда оба пошли они в замок.
Стоящий на пороге Барвинек приветствовал проходящих и повёл за ними глазами. С того времени, когда он видел ротмистра за доверчивым разговором со своим гостем, был значительно удовлетворён и считал его уже за поляка. Благородного Белинского знали как настоящего рыцаря, который не в какие тайные сговоры не вдавался.
Не имел он также времени заниматься Немечковским, потому что со вчерашнего дня иная и ещё более неординарная фигура появилась «Под белым конём».
Та большей была, может, загадкой для Барвинка, чем в первые дни тот мнимый немец.
Ближе к вечеру очень красивая колебка подкатила к постоялому двору, влекомая четырьмя гнедыми лошадьми в блестящей упряжи, со слугами с цветом, с челядью и возом за ней. Дамы и господа, которые в это время ездили только колебками, в постоялый двор никогда почти не сворачивали. Могущественные имели или собственные дворы, или знакомых в городе.
Вышел Барвинек, шапку уже заранее стягивая и надеясь увидеть выходящую из кареты женщину, когда двое из слуг, приблизившись к ступени, достали изнутри что-то, словно маленького подростка, ребёнка… и поставили его на землю.
Эта фигурка едва достигала Барвинку до колен, но это не был ребёнок, потому что, наклонившись, хозяин с удивлением заметил маленького немолодого человечка, карла, одетого по-чужеземски, с гордой миной, при мечике.
Карлы при дворах в то время не были особенностью, имела их Бона несколько, из которых двоих подарила императору Карлу; карлицу Досечку забрала с собой в Швецию Екатерина и та в заключении с ней сидела, Ягнешку взяла княгиня Брунсвицкая, но карла, который бы сам себе был паном, ездил в колебке, имел слуг, цвет и выступал по-пански, Барвинек, как жил, не видел и никогда о подобном не слышал.
Не знал он, как к нему обратиться, почтить его или равным себе считать. Он ещё размышлял, когда карлик что-то живо залепетал слуге, а тот приблизился к Барвинку и объявил ему, что его пан, королевский подкоморий (какого короля, не говорил), доведывался, где бы мог найти удобную и красивую гостиницу, за которую заплатит, как следует.
– Но, – прибавил слуга, – лишь бы чем наш пан не удовлетворится, привык к королевским покоям, нужно ему пару чистых и красивых комнат.
Барвинек охотно поместил бы его у себя, из-за прибыли, но мест не было; он тёр, поэтому, голову и размышлял, а тем временем, увидев так разодетого карла, множество людей собралось, как на чудо, около него и ворот, что маленького пана сильно выводило из терпения.
Он был ужасно живого темперамента, начал звать слуг, нетерпеливо крутясь, и, прежде чем Барвинек надумал отвести его в соседство к мещанину Совки, который мог уступить пару прекрасных комнат, карлик рванулся назад в свою колебку и уже хотел ехать прочь, приказывая ко двору старосты везти, хотя пора была поздняя.
Барвинек едва имел время подбежать и предложить проводить его к Совки, а то, что там сараев и конюшни не было, двор и лошадей этого маленького подкомория вернуть под белого коня.
Позже от людей узнал хозяин, что карлика звали Крассовским, что он был польским шляхтичем из Подлясья, могущественным человеком и, что в течении долгого времени он пребывал при дворе французской королевы, а недавно вернулся в Польшу.
Того же дня утром видели его в колебке, едущего к пану Вольскому старосте, который не только принял гостя, но забрал его от Совки к себе на двор с людьми и лошадьми. Около полудня потом приехал посланец из Швеции с письмами и тот остановился «Под белым конём», а позднее двое прибыло от герцога прусского.
Словом, не имел Барвинек отдыха и заключал из этого движения, какое тут выявлялось, что с королём, должно быть, плохо, когда так усердно наведывались со всех сторон.
* * *В замке в этот день положение не изменилось, те, что имели ближайший доступ к королю, говорили, что улучшения здоровья доктора не прогнозировали и настаивали на отъезде.
Великая неразбериха царила среди службы, стремящейся получить пользу из последних минут панской жизни.
Выносили ящики и мешки, приводили евреев и ростовщиков, бродили разные женщины, любовницы короля поступали так смело и беззастенчиво, как если бы были уверены в безнаказанности.
В этот день ходила новость, что король долго с кс. Красинским, подканцлером, сидел, запершись, и уже составленное завещание приказал переписывать в нескольких экземплярах. В конюшнях всё приготовили к путешествию. Сигизмунд Август почти не вставал с ложа.
День отъезда ещё не был назначен. Крайчий и подчаший, которые оба считались приятелями Гижанки, медлили с путешествием, желая дождаться её здесь, чтобы ещё для себя и своей дочки у короля что-нибудь могла выманить.
Из многих любовниц Сигизмунда Августа Барбара Гижанка была самой голосистой, а появившейся в этом году дочкой, которую считали королевским ребёнком, пользовалась для того, чтобы для себя выпросить обильное приданое.
Очень красивая, эта дочка мещанина и варшавского бургомистра жила с матерью в монастыре, когда её просмотрели крайчий и подчаший, и с помощью еврея Егидего, который служил им в подобных делах, увели для короля. Подчаший был первым, что сумел туда проникнуть под фамилией сестры Опацкой.
Приведённая в замок, в котором жила на одном дворе с принцессой Анной, больно дала ей себя почувствовать, по той причине, что из окон принцессы было видно по целым дням выглядывающую и принимающую многих гостей любовницу, а потом неоднократно и её детское хныканье доходило до ушей униженной пани.
Возмущённый двор принцессы Анны и она сама этого ребёнка иначе как «щенком» не называли.
Великие милости у короля привлекли к ней много друзей, во главе которых стояли крайчий и подчаший. Первый из них подарил ей сразу карету и коней, которыми гордилась в городе, когда у принцессы гроша на кухню для двора не было. Иероним Синявский, каштелян каминицкий, Ласки, воевода мазовецкий, много иных выбрали себе Гижанку, через неё у короля вымогая привилегии и дары.
Ещё более болезненным, чем соседство в замке Гижанки, было похищение собственной фрауцимер принцессы Анны, Заячковской, на которой король хотел жениться. Использовали уловку, обманули принцессу, якобы Заячковская собиралась выходить замуж, и таким образом взяли её к королю, а потом временно поместили в Витове, недалек от Пиотркова, где держали её по-княжески. По несколько тысяч золотых червонцев сразу посылал король Заячковской, а одно её роскошное ложе стоило четыре тысячи.
Кровавыми слезами этот позор своего дома оплакивала Анна, а оттого, что возмущения своего сдерживать не умела, что её речи доносили Августу и пытались их поссорить, дошло до того, что брат с сестрой не виделись, и король о всех её нуждах, казалось, забыл.
Анна на самом деле имела друзей и на королевском дворе, но менее смелых, чем те, которые из последних часов старались извлечь для себя выгоду.
Завещание, которое как раз в этот день переписывали, доказывало лучше всего, что сердце Сигизмунда Августа не отвернулось от сестры. Скорее стыд, нежели гнев, был поводом для разрыва отношений. Король боялся законных оправданий, самых слёз, которые больно бы его кольнули.
Не давали также больному покоя, его намеренно изолировали, пичкали всё более новыми лекарствами баб и привозимых ведьм – так что ослабевший, измученный, он не был паном себе.
Обозный Карвицкий был одним из тех, которые наиболее торжественно себе обещали не допустить отъезда короля, пока с сестрой не увидится и не помирится.
Когда так в одной части замка около больного крутится рой жадных людей, в другой возле принцессы Анны собираются верные ей и семье, готовые защитить покинутую. К этим принадлежал, как мы видели, и варшавский староста, который, будучи в замке, и, не имея возможности достучаться до короля, велел отвести себя к принцессе.
Она принимала его всегда мило, по той причине, что считала его человеком, который не запятнал себя никчёмным раболепием, а у короля имел милость заслуженной работой, какую предпринял около моста на Висле, потому что Сигизмунд Август желая это дело видеть завершённым, поручил ему и на него надеялся.
Этот огромный мост, постройка для своего времени трудная и дорогая, уже наполовину было оконченным. Ездил король, когда чувствовал себя более здоровым, осматривать его, присматривалась принцесса, гордился им Вольский.
Увидев его у себя, Анна которая, как всегда, так и в этот день, вышла к нему с заплаканными глазами, думала, что он прибыл похвастаться своей работой.
– Давно вас не видела, пане староста, – отозвалась она грустно, – и ни весна, ни зима не помешали вашим работам, которые, конечно, должны были продвинуться далеко.
– Не отдыхаем, – ответил староста весело, потому что всегда привык показывать ясное лицо, – страшусь только теперь, чтобы нам боязнь эпидемии не не рассеяла людей.
Принцесса вздохнула. Вольский, поведавший ещё что-то о мосте, внезапно изменил предмет разговора.
– У меня есть интересный гость, – сказал он, – которого я бы и вашей милости рад показать, но без позволения не смел.
Кто же это такой? – равнодушно спросила Анна.
– Польский шляхтич, Крассовский, но от долгого пребывания во Франции на дворе королевы-матери, которой был и есть любимцем, наполовину уже француз. Зовут Крассовский. Господь Бог его коснулся физическим недостатком, потому что я этого иначе назвать не могу, так как не знаю, выше ли он ростом локтя, но Локетек этот разумом, остроумием, учёностью и даже фигурой и лицом ни одного гиганта превосходит. Нужно его видеть, чтобы этому поверить. Так ему эта карликовость, что имела быть ограничением, стала инструментом фортуны. Долгие годы пребывая на французском дворе, он собрал и имущества достаточно, и приобрёл популярность. Заскучал он, однако, по Польше и теперь тут пребывает. Самое интересное то, что он рассказывает о французском дворе, королеве-матери, короле и его семье, стоит послушать.
– Мой староста! – вздохнула Анна. – Сегодня у нас так грустно, что красивейшей сказочкой о королях развлечь нас трудно.
Вольского не обидел этот ответ.
– А я бы, – сказал он, – несмотря на это, смиренно просил бы его на аудиенцию. Если бы король был поздоровее, наверняка, принял бы его, вместо него хоть ваша милость захотите учинить ему эту благосклонность.
Довольно равнодушно, не поднимая глаз, принцесса сказала:
– Ежели это обязательно необходимо, а вам будет приятно?
Староста поклонился в колена.
– Я хотел бы ему это выхлопотать, так как он имел из Кракова ко мне рекомендательные письма, – проговорил он. – Человек, впрочем, интересный, потому что насколько он маленький, настолько в нём много ума, и стоит видеть эту особенность, потому что подобное не быстро появляется.
Карлов мы все знали и видели много, особенно злобных и детских, этот же совсем другой и позора польскому народу у французов не учинил.
Староста спросил, когда бы он мог Крассовского с собой привести, а принцесса немного огорчилась.
– Когда хотите, – сказала она, – только не тогда, когда мне у брата, у его величества короля аудиенцию выхлопочут, так как её не сегодня-завтра ожидаю.
– Сомневаюсь насчёт сегодня, – сказал староста, – он с ксендзем подканцлером занят и знаю, что не скоро это кончится. Поэтому, если бы ваша милость дозволила, ближе к вечеру его сюда мог бы привести.
Принцесса не казалась ни любопытной, ни жадной до знакомства с таким оригинальным созданием, которого ей рекомендовал староста, но не хотела прекословить Вольскому.
– Итак, хорошо, – ответила она холодно, – а говорит он по-польски или по-итальянски?
– Знает оба эти языка, а французский естественно, потому что к этому привык долгим пребыванием во Франции.
Вольский, так недолго побыв, отъехал, а принцесса Анна засмущалась сразу тем, что карлик, который привык к великолепию парижского двора, найдёт у неё такое убожество и простоту. Она велела Доси постараться, чтобы комната для аудиенций выглядела немного красивей.
Но откуда же здесь было взять предметы интерьера для неё и украшения?
Заглобянка из иных комнат повыносила, что могла, постаралась о цветке и немного обновила грустную и тёмную комнату.
Как объявлял староста, перед вечером заехала колебка в малый замковый двор, где находились несколько особ из службы, и недоумевали, видя проходящего Крассовского.
Действительно, эта фигурка была такая особенная, что ей дивился весь Божий свет и надивиться не мог. Карлик был очень изысканно одет по французской моде, а так как ловкий был и полный жизни, хотя немолодой, поворачивался резко, выставлял себя очень смело и гордо – было приятно на него поглядеть. Начиная с волос, искусно уложенных, всё, что имел на себе, было тщательно подобранное, дорогостоящее и красивое. Цепочка, мечик были специально сделаны для него.
Личико, хотя постаревшее и морщинистое, имело много жизни, глаза – огня, движения – изящества.
Привыкший к большому двору, к обществу королей и герцогов, обращался бодро, смело, отнюдь не смущённый и уверенный в себе.
Принцесса, нарядившись немного аккуратней, хотя наряжаться не очень любила, вышла навстречу старосте, который представил ей Крассовского.
Карлик со шляпкой в руке, приняв осанку придворного, поклонился принцессе и весьма смело выпалил свой комплемент по-итальянски.
Голос его, не такой писклявый, какой обычно бывает у карлов, звучал приятно, и Крассовский в целом произвел на Анну хорошее впечатление.
Она спросила его, как долго он не был в стране. Тогда карлик начал отвечать, как почти двадцать лет назад он случайно попал во Францию, как из-за своего порока был представлен на королевском дворе, полюбили его там и вынудили остаться.
– Хотя мне там было очень хорошо и тешился милостями всей королевской семьи, – говорил он далее, – неоднократно я скучал по родине и никогда о ней забыть не мог.
Королева-мать, в услугах которой я имел честь быть, не хотела меня отпустить, я даже должен был ей обещать, что вернусь, посетив мою родину, и так очутился теперь здесь.
– В довольно грустное время, – сказала принцесса Анна. – Наш двор по причине слабости короля покрыт грустью, разделён, а вот и о чуме нас извещают. Скоро, ваша милость, наверное, убедившись, что у нас делается, и как тут тяжко живут, вернётесь в более весёлую Францию.