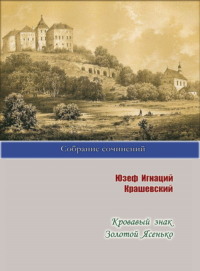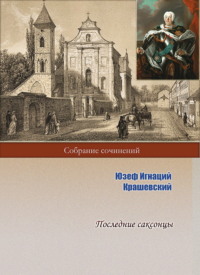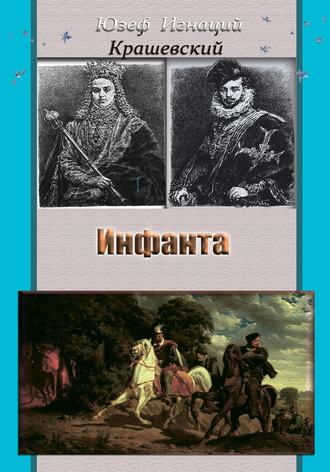
Полная версия
Инфанта (Анна Ягеллонка)
Несмотря на глаза, уставшие от слёз, и бледное лицо, она имела ещё остаток молодости и о летах, которых достигла, догадаться было невозможно. Выражение большой подавленной боли делало её ещё более симпатичной.
В этом облике, утомлённом жизнью, надеждами и отчаянием, желаниями и унижениями, жертвами и неблагодарностью, столько связывалось друг с другом разных знаков прошлого и настоящего, что трудно было угадать соответствующий ей характер. Энергия и сомнение, слабость и сила словно потоками горячки и холода протекали по лицу.
Нетерпеливую дрожь заметил Талвощ, приближаясь к ней с почтением.
Она едва дала ему поклониться.
– А! Мой Талвощ! – сказала она взволнованным голосом, в котором было чуть подавленное рыдание. – Мой Талвощ! Советуй и спасай, не имею никого. Что тут предпринять, король всё хуже.
– Милостивая пани, – прервал Талвощ живо, не желая ей дать разжалобить себя, – я уверен, что там у его величества короля панна Дорота через обозного, что могла сделать, то сделала как можно лучше. Я знаю, что обещали следить, дабы о вашем королевском высочестве он не забыл. Не может того быть, в любую минуту мы получим известие.
– Но прежде чем это наступит, – сказала принцесса, понижая голос, – мой Талвощ, на содержание моего щуплого двора, хоть экономлю, ничего не имею. Никто о моих нуждах не думает. Я для себя не требую много, готова поститься на хлебе и воде, видит Бог, но мне стыдно за людей… из-за этого достоинства королевской дочки, королевской сестры, которое я должна нести.
Она подошла на несколько шагов к Талвощу и огляделась вокруг.
– Скрывать от вас нет необходимости, – добавила она, – вы – верный наш слуга.
– И жизнь готов отдать, чтобы это доказать, – горячо воскликнул Талвощ.
– У людей на веру брать не могу, а у меня уже во всём доме одного талера не имеется, – начала Ягелонка. – Занять не вижу у кого, просить не научилась, нужно тайно часть серебра заложить, но никто, никто на свете знать не должен, что оно моё.
Когда она это говорила, её голос дрожал, глаза наполнились слезами. Талвощ стоял подавленный, с глазами, уставленными в пол.
– Иди за мной, – промолвила принцесса.
Послушный литвин грустно потащился за принцессой, которая быстрым шагом направлялась к дверям, ведущими в глубину, и, ведя его за собой, дошла до маленьких закрытых дверок, углублённых в стене спальни. Она отворила их ключом, вынутым из кармана, и по двум лестницам ввела Талвоща в очень щуплую каморку с одним зарешечённым сверху оконцем.
Комнатка была пустой и только на её каменном полу, на кусочке разостланной ткани, были видны разбросанные в беспорядке серебряные миски, кубки, кувшины, наливки и чаши. Как если бы их какая-то беспокойная рука перебирала, были разделены на кучки, перевёрнуты, разбросаны. Этого уже было не много.
Принцесса, войдя на порог, стояла, заломив руки, задумчивая.
– Это остатки! – сказала она Талвощу. – И по большей части памятки лучших времён, напоминающие разные лета жизни. На некоторых из них знаки и гербы показывают происхождение, к этим прикасаться нельзя… другие…
И, не кончая, она закрыла свои глаза. Талвощ, желая облегчить принцессе боль, нагнулся к этим сосудам.
– Выбери, мой Талвощ, из того, что справа, – отозвалась Анна, – возьми как можно меньше, а принеси как можно больше, но не продавай ничего. Избавиться не могу. Отдай в верные руки, чтобы не пропало, выкуплю, как только смогу… но сейчас, прежде чем сестра моя Брунсвицкая что-то соблаговолит отправить, прежде чем дождусь от Чарнковского, прежде чем король смилостивится, голодом людей морить не могу и выпроводить их всех не годится мне.
Талвощ, опустившись на колени, на полу то перебирал руками миски и кувшины, то отступал, жаль ему было прикасаться к этим памяткам.
Принцесса, опершись о дверь, не смотрела уже на него. Через минуту только она шепнула:
– Спеши, покажешь мне, что выберешь. В углу найдёшь ты кусочек сукна. Оберни, дабы никто не видел. А! Стыд мне великий.
– Милостивая пани, – отозвался наконец Талвощ, – тем бы нужно устыдиться, что вас к этому привели. Пойду сейчас в город, евреев боюсь, найду, может, честного мещанина.
– Согласна, прошу, чтобы не пропали, – прибавила принцесса дрожащим голосом.
Жалость схватила её за сердце, когда увидела Талвоща, обёртывающего несколько мисок и кубков, и не выдержала:
– А! Заячковской, которую я приняла почти без рубашки, ни в чём сегодня себе не отказывает в Витове.
Плач не дал ей говорить. Талвощ, поспешно завернув серебро, стоял, уже готовый уйти.
– Референдарий Чарнковский, наверно, прибудет, – сказал он, желая добавить отваги беспокойной, – пусть ваша милость не страшится за будущее, о серебре живая душа знать не будет. В любую минуту с королём также, наверное, можно будет увидеться, а он должен обеспечить вас.
– Дай-то Боже, ибо силы исчерпываются, – шепнула, вытирая глаза, принцесса. – Иди, мой Талвощ, делай, как следует и не оставляйте вы меня, которых уже только горстка осталась верных.
Принцесса закрыла дверь коморы. Литвин стоял перед ней с узелком под мышкой.
– Разрешите мне речь словечко, ваша милость, – отозвался он после раздумья. – Разве помогут слёзы, когда следует о своих правах упоминать смело. Ваша милость от избытка медлительности и доброты пренебрегли недостойными людьми, а его величеству королю, как сестра, могли бы смелей говорить слова правды.
Доступа не имею за теми плохими, что его окружили, сказала Анна.
– Поэтому не просить теперь об этом, а требовать нужно, – отрезал Талвощ. – Я человек маленький, но мне мужества хватает, когда только приказы получаю. Упорно пойду хоть к его величеству королю.
– Если бы он был более здоровым, – прервала тихо принцесса.
– Собственно потому, что он опасно болен, тянуть нельзя, – добавил Талвощ.
Анна хотела объяснить свою медлительность.
– Дося обещала, что мне сделают аудиенцию, – сказала она, – ждать уж нужно терпеливо.
– Но если не сделает и не дождёмся, – сказал литвин, впадая в гнев.
– Пусть ваша милость развяжет руки, я пойду и не может быть, чтобы я не добился аудиенции. Услышат от меня фавориты и доносчики, чего ни от кого не слышали.
Анна испугалась и, складывая руки, шибко воскликнула:
– Только без разрешения не вырывайся, не хочу ничего силой получать.
Когда они это говорили, Талвощ уже стоял на пороге первой комнаты.
– Иди, спеши, – докончила принцесса, – сделай то, что я тебе поручила, но больше ничего. Милостивый Бог сжалится надо мной.
Так отправленный литвин, очутившись один с узелком под рукой в комнате аудиенции, замедлил шаг, огляделся.
Он должен был теперь обдумать какое-то средство ускользнуть отсюда незамеченным.
В приёмной не было никого, а маленькие двери вели из неё в коридор, где он не ожидал встретиться ни с одним слугой из двора принцессы, так как здесь их осталось немного. Таким образом, он выскользнул, уходя почти как вор, и счастливо добежал до своей комнаты, в которой товарища Боболы не застал. Было это ему как раз на руку.
Закрыв на засов дверь, он мог свободно собранное серебро связать и уложить так, чтобы заняло как можно меньше места, покрыл его войлоком и обвязал ремнём от упряжи. Узел мог показаться частью какого-то конюшенного инвентаря.
Лишь так приготовившись, он отворил дверь и позвал слугу, служащего при конюшнях, сам одевшись, как для города.
Прежде чем переступил порог, Талвощ осенил себя святым крестом. Знал он себя, горячкой был, и при наилучшем сердце к делам, которые требовали хитрости и терпения, особенно на себя не полагался, но верил в Божью помощь.
Уважение и любовь к несчастной принцессе, а, может, обожание Доси, милость которой мог получить легче, служа её пани, прибавляли ему отваги.
Он энергично отправился через двор к городу, конюшего с узлом на плече ведя за собой.
Во дворах сейчас была великая суета и бродило множество людей; пройти незамеченным было трудно, но никто не спросил Талвоща, что за ним несли, а знали его также из грубости и зацеплять никто не имел охоты.
Так удачно добрался он уже до главных ворот со стороны Ворот Краковских, когда Пудловский, один из королевских придворных, с ним поздоровался:
– С чем же это вы так рано в город выбрались? – спросил он, любопытными глазами меряя молодого человека.
– Захотели, рухлядь нужно для путешествия починить, – ответил Талвощ.
Пудловский только покрутил головой и любопытной рукой хотел пощупать узелок, когда литвин так ему на ухо закричал: «Прочь!», что тот был вынужден ретироваться.
– Оставьте в покое моё барахло, – крикнул он, – я, наверно, не выношу из замка то, что мне не принадлежит. Следите лучше за своими товарищами.
Пудловский что-то проворчал, кисло смеясь, и на этом кончилось.
Талвощ со слугой вышел в город, но он не знал, где тут было обернуться.
Чужак в Варшаве, он почувствовал, что без чьего-нибудь совета ничего не сумеет.
Его также легко было заподозрить, а от самой этой мысли кровь приливала к лицу. Он постоял немного на улице, не зная вполне, куда повернуть.
В горячем желании послужить принцессе он предпринял то, что ему теперь казалось очень трудным для выполнения.
Он размышлял ещё, когда почувствовал, что ему кто-то положил на плечо руку и мягким голосом по-христиански поздоровался:
– Слава Иисусу Христу!
Перед ним стоял идущий из костёла Панны Марии, в изношенной сутане ксендз, высокий, бледный, с некрасивым лицом, неправильные черты которого были и грубые, но чрезвычайно мягкие и полные какого-то милосердия. Был это очень бедный викарий Ступек, которого знал Талвощ и весь двор принцессы, потому что часто заглядывал в толпу людей и на службу, имея за обязанность утешать, учить и направлять особенно бедных и мало просвещённых. Было это его призвание.
Один, сын бедного крестьянина, сирота, он с великим трудом добился того, что смог стать священником и посвятить себя тому народу, которому чувствовал себя братом.
Ещё не старый, закалённый жизнью, ксендз Ступек жил только своим призванием и исполнением обязанностей, взятых на себя добровольно. В костёле все, начиная от пробоща до ризника, на него перекладывали всякие тяготы. Бедных он хоронил бесплатно, шёл он к бедным умирающим ночью в непогоду, сидел он при гробах, пел и молился, когда другие не хотели.
Ни в чём для себя не нуждаясь, ходя в потёртой сутане, постясь почти постоянно, всегда весёлый и спокойный, кс. Ступек пробуждал в одних почти насмешливое сострадание, в других уважение. Видели его там, где духовные обычно редко встречались: на рынках, в шинках, среди толпы, носящего слово Божье, обезоруживающего враждующих, объединяющего спорящих, направляющего безумных.
Всегда мягкий, имел иногда кс. Ступек взрывы такого страшного набожного гнева, что его боялись. Ибо народ принимал его почти за святого человека, который, забывая о себе, с по-настоящему апостольским рвением служил братьям, о которых другие не заботились.
Талвощу казалось, что ему, пожалуй, Провидение послало в эти минуты такого святого человека, и схватил его за руку, радостно её целуя.
– А куда это? – спросил викарий.
– Если бы я знал! – ответил литвин, отводя ксендза немного в сторону. – Может быть, вы, дорогой отец, скажете мне, куда идти. Вам я могу довериться. Меня послала принцесса! Мы не имеем ни гроша в доме… бедная пани мне приказала тайно серебро заложить в безопасном месте. Сам не знаю, куда направиться с ним.
Ксендз Ступек поднял свои огромные руки вверх.
– Принцесса! Требует серебро заложить, чтобы хлеба купить? Принцесса! – воскликнул он, задетый и испуганный. – Может ли это быть! О! Наказанье Божье, за грехи отцов, невинная жертва! А придворные ходят в цепях и ездят в позолоченных каретах, а блудники деньгами сыпят, сея грех и скандал.
Он поднял глаза, которые зашли слезами, к небу.
– Отец мой! – прервал Талвощ. – Ради Бога! Нет свободного времени, советуй, если можешь, или позволь мне идти, потому что моего возвращения ожидают.
Духовный задумался, водя вокруг очами. Затем они увидели как раз из замковых ворот выезжающего на коне в сопровождении нескольких вооружённых придворных мужчину средних лет, в польском наряде, довольно изысканном, который хмурым взглядом, покручивая усы, смотрел по сторонам. Его серьёзное лицо было милого выражения, но его покрывала печаль. Удивляться этому было невозможно, потому что никто в это время из замка от короля весёлым не выезжал: ни те, что его видели больным и упавшим духом, ни такие, что достать до него не могли.
Ксендз Ступек, увидев едущего, дал знак Талвощу.
– Задержись ненадолго, я два слова только скажу пану старосте.
Послушный литвин, который узнал во всаднике варшавского старосту Сигизмунда Вольского, хотя не понял, для чего викарий велел ему подождать, задержался, а ксендз Ступек быстро пошёл к всаднику.
Вольский остановился и начал разговаривать с викарием, который вскоре дал знак Талвощу, чтобы приблизился.
Литвин едва имел время с ним поздороваться, когда староста, наклонившись к нему, шепнул:
– Приходи сейчас ко мне, на старостинский двор, ты знаешь, мы устроим, что нужно. Благодарение Богу, что это так сложилось. Надо было прямо ко мне прийти.
Говоря это, Вольский поклонился ксендзу, кивнул головой Талвощу и, пустив коня, поехал со своим отрядом дальше.
Ступек между тем шептал Тавощу на ухо:
– Никому больше ни слова, иди к старосте.
– Но, ради Бога! – прервал Талвощ. – Таким образом откроется тайна, о которой никто знать не должен.
– Староста её не предаст, я его знаю, – воскликнул ксендз Ступек. – Говори с ним откровенно, он уважает принцессу и всю семью, ему можешь доверять. Иди и спеши.
Литвин, с недавнего времени будучи при принцессе, желая в короткое время своей энергией приобрести её доверие, не знал старосты близко, но знал о нём, что был приличным человеком и что принцесса Анна его очень ценила; он слышал, что с теми, кто окружал и обдирал короля, он не имел никаких отношений, – поэтому он охотно послушался совета кс. Ступка и поспешил на двор пана старосты.
Тот стоял ещё на крыльце и давал людям указания, когда появился Талвощ, ведя за собой слугу с узелком.
Они вместе вошли в большую комнату, в которой Вольский обычно принимал гостей. Староста живо обратился к Талвощу, отпоясывая саблю.
– Ради Господних ран, так что уж у вас плохого, что серебро нужно заложить, дабы двор с голоду не умер! – воскликнул Вольский.
– Не могу отказать, – ответил литвин, – но это есть и должно остаться тайной. Я доверился с этим ксендзу-викарию, хотя не имел права, пусть пан староста имеет милосердие над своим слугой.
– Я не предам, – живо начал Вольский, – будь спокоен. Значит, так плохо, так плохо?
– Так плохо, что хуже быть, пожалуй, не может, – прервал Талвощ. – Жалость берёт смотреть на принцессу. Из замка тысячами золотые червонцы вывозят, драгоценности забирают, а с принцессой наияснейший пан говорить не хочет, её потребностей никто не обеспечит, она с утра до ночи плачет и с отчаяния серебро и драгоценности закладывает. Мы стучим и сбиваемся с ног, выпрашивая разговор, аудиенцию – и этого нельзя дождаться.
Нахмуренный Вольский крутил усы.
– Ужас! – вскричал он. – Но Бог милостив, всё должно перемениться.
Он прошёлся по комнате, размышляя, и обратился к Талвощу:
– Своё серебро возьми назад, – сказал он, – сколько за него мог получить?
– Сам не знаю, – ответил Талвощ. – Серебро ни в коем разе забрать не могу, потому что выдалось бы, что я раскрыл тайну, а принцесса бы не простила. Речь о чести королевского дома. Никто знать не должен, что до этого дошло.
– Покажи это серебро, – промолвил староста.
Талвощ открыл дверь, кивнул слуге и велел ему подать узелок, который сам развязал на столе.
Вольский почти со слезами на глазах по одному брал принесённые кубки и блюдца; закрыл их быстро сукном и сказал Талвощу:
– Я сомневаюсь, чтобы у евреев вы больше нескольких сот золотых получили; столько же и я дам и пусть серебро в хранилище лежит, ежели его назад забрать не можете… но мы все смертны… ты мне напишешь расписку, а я – вашей милости.
Литвин поклонился.
– Пане староста, ради Христовых ран, пусть никто не знает! – добавил он тихо.
– Я потому это делаю, чтобы никто не знал, – отозвался Вольский, – по той причине, что мне не только жаль принцессу, но мне также честь крови её дорога.
Это говоря, Вольский вышел на противоположную сторону, коротко усмехнулся, и принёс мешок с собой, а Талвощу указал место у стола для написания расписки.
В несколько минут всё было готово, Талвощ облегчённо вздохнул; с уважением попрощался со старостой и поспешно вышел назад из замка, с радостью, что ему удачно удалось исполнить поручение…
Отправив слугу вперёд, сам с мешком за пазухой он уже был на втором дворе, по счастью, не обратив на себя ничьё внимание, и собирался сразу оповестить принцессу, когда Заглобянка заступила ему дорогу.
Она измерила его быстрыми очами, из которых он мог вычитать, что она знала, с чем он ходил, и хотела узнать, как вернулся.
– Благодарение Богу, – шепнул, кланяясь ей, Талвощ, – всё удалось хорошо.
Говоря это, он ударил рукой по мешку, который имел за сукном.
Девушка, не говоря ни слова, поблагодарила его только взглядом.
– Есть кто-нибудь у принцессы? – спросил Талвощ.
Дося пожала плечами.
– Никого, – сказала она, – люди знают, что тут ничем поживиться нельзя, редко также кто заглянет. Иди, милостивый государь…
Взгляд девушки, литвину казалось, платит за всё, так просияло его лицо. Не имел даже времени подумать, как солгать перед принцессой, когда она его спросит, что сделал с серебром, и вбежал в комнату аудиенций.
Анны тут не было, она ходила по другой комнате с Жалинской, о чём-то совещаясь потихоньку, а, увидев Талвоща, с улыбкой поспешила ему навстречу к порогу.
– Обернулись, ваша милость! – сказала она, меряя его глазами, чтобы узнать, принёс ли он что-нибудь с собой.
Талвощ добытый мешок положил на столе, кланяясь, и тихо шепнул, сколько принёс. Принцесса немного удивилась.
– Так много? – спросила она, чуть колеблясь и изучая его глазами.
– По весу пошло, – солгал Талвощ, – и столько выпало…
И уверен в серебре?
– Я головой за него ручаюсь, – отозвался литвин.
Принцесса Анна, которой было очень важно, дрожащими руками подала Жалинской мешок, кивком благодаря Талвоща.
– Пусть Бог тебе заплатит! – сказала она. – Потому что не знаю, смогу ли когда-нибудь показать благодарность вашей милости.
Литвин поклонился аж до земли… Он боялся, чтобы принцесса его не расспрашивала больше, и тут же отступил к порогу, как бы избегал благодарностей.
Только теперь он вздохнул свободней, когда, вернувшись в свою комнату, мог сесть, вытереть лицо, и, подумав, прийти к тому убеждению, что поручение выполнил удачно.
Пришедший Бобола застал его сидящим за столом с гораздо более светлым лицом, чем вчера…
* * *Почти тут же за Краковским воротами находился огромный постоялый двор для путешественников, хорошо известный в эти времена, так как был почти единственным в городе, в который, во время пребывания двора, приезжали путешественники издалека, а именно, немцы.
Вывешенный на пруте с одной стороны знак представлял собой очень неправильно вырезанного из дерева коня с гривой и пурпурным хвостом.
Дожди и пыль, по правде говоря, белого коня сделали серым и пёстрым, а красную некогда гриву и хвост обесцветили, но тем не менее постоялый двор назывался «Под белым конём». Рядом с этим румаком, который перебирал в воздухе двумя ногами, на меньшем прутике была огромная вьеха[3], имеющая обязанность быть зелёной, но также пожелтевшая и наполовину опавшая.
Хозяйство больших размеров с сараями, конюшнями, хлевами и хранилищами, опоясанное по кругу забором, на взгляд, не выглядело ни изящно, ни даже чисто, стены были серые и забрызганные, ставни неплотные, крыша залатанная, но всем было известно, что лучшего постоялого двора и более услужливого хозяина, чем Барвинка, не было в Варшаве.
Барвинек имел особенную привилегию приёма у себя путешествующих немцев, с которыми мог разговаривать на их родном языке, чем гордился. Он сам утверждал, что с бедой что-то имел в запасе и из латыни на непредвиденный случай.
Кроме того, хозяин в своей особе соединил ещё – с позволения – мясника, и говорили, что свою профессию начал с убийства, прежде чем взялся за кормёжку. Фигура Барвинка, который фартука и ножа из запаса никогда днём не сбрасывал, полностью отвечала традициям гильдии, к которой относился. Огромного роста, с плечами и шеей сильными, как у зубра, округлым и румяным лицом, блестящими щеками, Барвинек был неутомимым в исполнении своих двойственных обязанностей. Весь день на ногах, рот также не жалея, ходил, бегал, кричал и не раз кулак в отношении челяди использовал.
Своим постоялым двором, хотя тот, может, оставлял желать лучшего, он очень гордился. Внизу размещалась гигантская комната, общая для всех путешественников, которая одновременно заменяла и кухню, потому что в глубине её на огромной печи на глазах гостей приготовлялись кушанья, которые им подавал Барвинек.
При нескольких столах ели тут и пили с рассвета до поздней ночи. Несколько грязных женщин едва успевали обслужить. Напротив находилась бойня со ставней, вывешенной на улицу, на которой и при ней вывешивали свежее мясо. Через широкие ворота посередине входили в конюшни и другие комнаты и коморы в тыльной стороне дома. Старая и разболтанная лестница вела отсюда на чердаки и верхнюю часть, где было несколько комнат для путешественников, которые могли заплатить лучше и заслуживали особенного отношения.
Бывали времена, когда на постоялом дворе под белым конём пановала тишина и Барвинек мог вздремнуть на скамейке при кружке пива, но когда двор прибывал в Варшаву, трудно было сюда дотянуться.
Немцы, которые часто прибывали из империи, от княгини Софии из Брунсвика, от князей прусских – все тут размещались, а хотя кто более достойный имел в замке квартиру, коня и кортеж оставлял под белым конём.
Из Мазовии также и иных земель, кто прибывая в Варшаву, у знакомого мещанина или в монастыре гостеприимства не имел, должен был просится к Барвинку.
В немалом также высокомерии выделяло этого хозяина то, что он знал свет и людей и лучше был осведомлён обо всём, что где происходило, чем другие.
Неоднократно паны советники, бургомистры и мещане, желая чего-то узнать, тянулись к Барвинку, а о ком он не дал хорошего свидетельства, тому не доверяли.
В особенности на него жаловались чужеземцы, что ввиду расчётов он не имел над ними милосердия и велел чрезмерно себе платить, но Барвинек говорил, что даром работать не мог и за эти деньги продавал своё спокойствие.
Мало с кем и с человеком какой-либо народности, хотя бы самым неприятным, самым гордым, не справился бы Барвинек. Много хладнокровия поначалу, а потом железного упорства ему помогало. Людей по аспекту, по приборам, по одежде, по мине, и, как говорил, даже по вытиранию носа научился узнавать так, что ему не много времени было нужно, чтобы знать как поступать с ними.
Молчаливый в первые часы, когда изучал своего путешественника, играл на нём, как на знакомом инструменте. Почти с каждым поступал иначе, а мало кого потом не высмеял…
Не льстил и не пресмыкался ни перед кем, а гордым низко кланялся, но им потом приказывал за это себе платить.
– Когда большой пан, вынимай кошелёк! – говорил он.
В ту пору, когда начинается наше повествование, Барвинек, как редко, ходил мрачный и недовольный собой. Слуги могли узнать это по собственным спинам, путешественники по молчаливому расположению. Девки, прислуживающие в большой комнате, уходили, лишь только увидев его – бегал такой злой и кислый и ничем ему угодить было невозможно.
Причиной этому было унижение. Редко когда выпадало Барвинку, чтобы не узнал кого-то за два дня, не узнал, как с ним обходиться, и с кем имел дело.
Между тем уже минуло четверо суток с того времени, когда к нему заехал путешественник, а Барвинек до сих пор даже национальность его изучить не мог.
На взгляд он казался ему немцем, имел немецких слуг, кони и карета украшены на немецкий манер. Сам он одевался, как немец, и имел вооружение, как они, а оказалось, что по-польски понимал и говорил даже на немного испорченном польском, в котором чувствовалось, что его когда-то знал хорошо.
С Барвинком предпочитал говорить по-немецки, но когда хозяин переходил на польский, не имел ни малейшей трудности в понимании.
Фамилии также много не говорили, слуги звали его Ritter von Nemetsch; он сам назвался хозяину Немечковским, но также мог быть чехом и поляком, а Барвинек его даже за чеха поначалу принял.