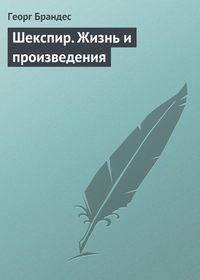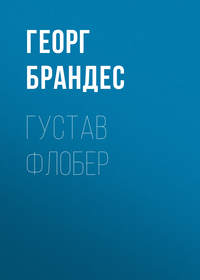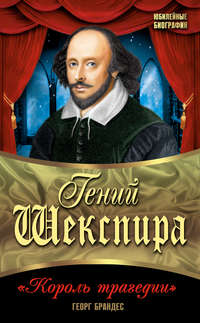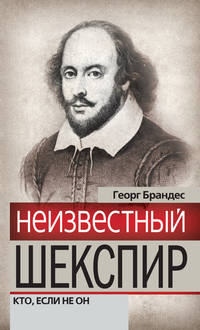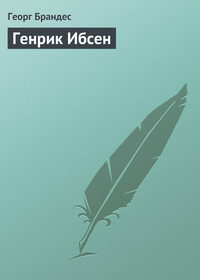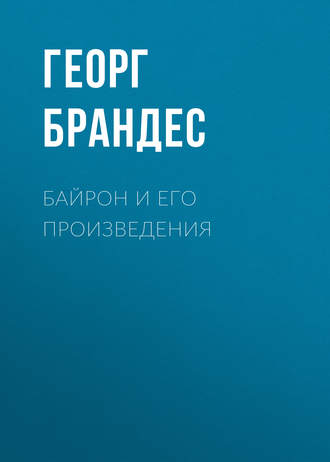 полная версия
полная версияБайрон и его произведения
«Безумие здесь – самое уместное слово; ибо, говорит «Quarterly Review», как лэди Байрон с самого начала объясняла все поступки своего мужа одним сумасшествием, так и мы теперь не можем иначе объяснить её поведения, как только душевною болезнью. Но замечательна разница между болезнью Байрона и болезнью его жены. Он помешан был на том, чтобы прослыть невозможным грешником, а она – чтобы сделаться невозможною святошей. В припадке безумия он придумывал всевозможное, чтобы очернить свою славу, а она принимала его самообвинения, которые зачастую были плохою остротою или мистификациею, за чистую монету. Её галлюцинации, напротив, проистекали из её желания – причинить вред тем людям, которые стояли к ней ближе всего и, по-видимому, должны были быть ей дороже всех. Какое ж помешательство тут было опаснее и гнуснее – решить не трудно!»[22].
Таким образом, последним впечатлением, вынесенным Байроном в Швейцарии, была ужасная клевета, под гнетом которой ему приходилось жить. Его мысли, конечно, но переставали возвращаться к ней и, как художник, он отдается творчеству. Как бы по её внушению, Жорж-Занд однажды в письме к Сент-Бёву несколькими смелыми штрихами изобразила свою натуру и поэтическую натуру вообще. Она говорит о философе Жуффруа[23], который желал представиться ой, по перед которым она, как пред чересчур строгим и несколько тяжеловесным моралистом, испытывала некоторую робость: «Жуффруа, пишет она, очевидно, такой человек, который, если бы зашла речь о людоедстве, непременно воскликнул бы: «Истинному человеку никогда не приходило в голову есть человеческое мясо!» Вы, обладая более широким взглядом на вещи, вы, напротив, сказали бы: «Люди, которые действительно едят человеческое мясо, непременно существуют!» А я, вероятно, подумала бы: «Каково-то на вкус человеческое мясо?» – Глубокия слова, прекрасно определяющие поэта, в противоположность созерцателю и моралисту. Наклонность давать полную свободу своему воображению и своей мысли производить всякие эксперименты и останавливаться мечтать надо всем, чего вообще гнушаются люди или боятся, была в высшей степени присуща Байрону. Известный анекдот, возбудивший, в свое время, такой ужас, о том, что он однажды с ножем в руке воскликнул: «Мне очень хотелось бы узнать, что чувствует самоубийца перед смертью!» – не имеет другого объяснения. Его увлекала идея преступной любви, как увлокала идея самоубийства. Его прежние герои, Гяур и Лара, совершили таинственное убийство, а, как известно, преступление его героев, без всяких рассуждений, приписывалось Байрону. Даже сам старик Гёте до того был обманут людскою молвою, что детские «нянюшкины росказни» назвал «весьма вероятными», будто бы Байрон имел во Флоренции (где он всего-то пробыл одно утро) любовную связь с одной молодой женщиной, которая была убита из ревности мужем, а Байрон, в свою очередь, из мести убил этого мужа. Как раньше старались видеть в трагическом выражении лица Лары доказательство его преступлений, так точно и в каши дни в отчаянии Манфреда и женитьбе Каина на своей сестре хотели видеть доказательства его преступной связи. Поэтому нет ничего удивительного, что Байрон и Мур вздумали однажды написать фантастическую биографию лорда Байрона, в которой хотел вывести так много лиц мужеского пола, убитых им. и так много лиц женского пола, соблазненных им. что можно было надеяться, что эта биография зажмет рот всем остальным собирателям анекдотов. Они отказались от этого плана только из опасения, что публика в своей наивности примет шутку за серьезное.
Весьма вероятно, что у Шелли и Байрона, вследствие легко объяснимых причин, заходил иногда разговор о любви между братом и сестрой, тем более, что подобный же бесплодный вопрос занимал и Шелли. Байрона раздражало особенно то обстоятельство, что более всего строго относились к этому преступлению лицемеры, в то-же самое время утверждавшие, что человечество, происходя от одной пары, размножилось именно путем браков между братьями с сестрами. Поэтому Байрон особенно подчеркивает в «Канне», что Канн и Ада были родные брат и сестра, и заставляет Люцифера говорить последней, что её любовь к брату не заключает в себе никакого греха, но что так и любовь будет считаться грехом в грядущем потомстве, на что Ада очень логично замечает:
Что-ж за грех такой,В котором нет греха?Ужель добро и зло от обстоятельств лишь зависит?Продуктом всех истолкованных здесь психологических элементов были «Манфред» и «Каин». Первое из этих произведений менее значительно, чем второе, и, конечно, вовсе не выдерживает сравнения с гётевским «Фаустом», с которым у него немило общего и с которым его так часто сопоставляют. Сам Гёте замечает, что об этом можно было-бы прочесть хорошую лекцию, что и делалось не раз, только никому не удавалось провести этой параллели так оригинально и так талантливо, как Тэну. Только в одном месте «Манфред» возвышается над «Фаустом». Для критиков лучшим анатомическим мерилом, при оценке различных частей произведения, служит именно то, что удержится в памяти критика от всего произведения по прошествии нескольких лет; я, по крайней мере, твердо помню, что единственная сцена, сохранившаяся в моей памяти из «Манфреда», после того как я десять лет не читал ого, это сцена, где Манфред, перед своею смертью, произносит строгий над собою приговор и, оттолкнув от себя аббата с его утешениями, гордо и с глубоким презрением прогоняет от себя злых духов, с которыми не имеет ничего общего и которым никогда не позволял взять над собою ни малейшей власти. Контраст с Фаустом, который продает себя Мефистофелю и надает на колени пред духом земли, выходит здесь поразительный. Пред глазами английского поэта стоял идеал самостоятельного мужества, до которого немец не возвысился, и герой его является столько-же типом мужа, сколько герой Гёте – типом человека. Умирая, кок и при жизни, он не имеет дела ни с адом, ни с небом. Он сам обвиняет и сам судить себя. Здесь заключается вся мужественная мораль Байрона. На уединенных высотах, по ту сторону снеговой линии, где нет места дли произрастания человеческой немощи и изнеженности, душа его впервые вздыхает свободно, и альпийский ландшафт воплощается в личности. родственной этому ландшафту по своей суровой дикости. Но в «Манфреде» обнаруживается, главным образом, субъективная сторона байроновской поэтической души. Его глубокая общечеловеческая симпатия впервые вполне высказалась в «Канне», этой дополнительной драме к «Манфреду». «Каин» – это исповедь Байрона, т. е. признание во всех своих сомнениях и критических взглядах. Если вспомнить, что он не успел путем упорной работы мысли завоевать себе, подобно Шелли и великим германским поэтам, свободного созерцания мира, и, но обладал, подобно современным немецким поэтам, ни научными знаниями в области природы, ни научной критикой памятников, для должного уразумения прошедшего и настоящего, то нельзя не подивиться той смелости и основательности, с какими он разрешает тут все высшие вопросы жизни.
Как частное лицо, Байрон, конечно, был совершенно одинаковым дилетантом как по части свободомыслия, так и в сфере своих политических убеждений. Его ясный ум возмущался всякого рода суеверием; но он был, подобно большинству великих людей начала нынешнего столетия, т. е. до развития религиозных знаний и естественных наук, в одно и то-же время, и скептиком, и суеверным. Еще в детстве он получил отвращение к клерикализму. Мать постоянно водила его с собою в кирку, а он мстил ей тем, что колол ее булавками, если ему там становилось чересчур скучно. Юношей он однажды до того был раздражен учением англикан с их 39-ю параграфами, что записал себе в памятную книжку (Memorandum), что запрещать исследовать учение умом так-же бесполезно, как говорить сторожу: «Не бодрствуй, усни!» Однако, при всех своих едки-остроумных нападках на клерикалов, он чувствовал себя не вполне убежденным. Он не осмеливается согласиться с результатами, к которым привело его мировоззрение Шелли, и воспитывает свою незаконную дочь в монастыре, чтобы на ребенка не повлияли разговоры свободомыслящих Шелли и его супруги. Прекрасное и характеристичное письмо Шелли есть лучшее свидетельство байроновской шаткости в убеждениях. Вот что пишет Шелли: «Одно или два письма Мура, в которых последний дружески отзывается обо мне, доставили мне истинное удовольствие, ибо я не могу не считать лестным для себя одобрение из уст такого человека, превосходство которого над собой признаю с гордостью. Но Мур, по-видимому, боится моего влияния на Байрона в религиозном отношении, и тон, которым написан «Каин», он приписывает мне. Прошу вас, убедите Мура, что я в этом отношении не имею ни малейшего влияния на лорда Байрона. Еслиб представился такой случай, я, конечно, воспользовался-бы ям и с корнем вырвал из его души все призрачные элементы легковерия, которое, не смотря на его ясный разум, по-видимому, возвращается к нему и лежит про запас на часы болезни и несчастья. «Каин» был много лет раньше задуман и начат, чем я встретился с Байроном в Равенне. Как был-бы я счастлив, если-бы я мог приписать себе хоть косвенное участие в этом бессмертном произведении!»
Таким образом, мы видим, что Байрон отнюдь не выработал твердого принципа в своем миросозерцании. Тем замечательнее, как гений Байрона, в области его поэтического творчества, возвышает и делает его победоносным в своих доводах и с бесподобною уверенностью побуждает его касаться самых затруднительных вопросов. И какой переворот последовал в европейской поэзии, до 1821 года, глубоко погрязшей в квиетистическом обскурантизме! Впечатление, произведенное им, можно уподобить впечатлению, которое произвело в научном мире, 40 лет позднее, известное сочинение Штрауса.
«Каин» написан не с лихорадочною поспешностью вдохновении; произведение это не мечет ни громом, ни молнией. Байрон понял здесь, что ему нужно сделать то, что для бурных натур является труднейшею задачею и квнт-ссенциею всякой морали: так сказать. канализировать, т. е. дать ей плодотворное направление. Произведение это – работа мыслителя, это – труд медленно разъедающей рефлексии, анализирующего остроумия и разрушающей все доводы мыслительной силы. Нигде так кстати не подходят слова Гёте к Байрону, как там, где он заставляет его говорить во второй части «Фауста», в образе Эвфориона:
Добычей вздорнойЯ не прельщусь:К борьбе упорнойЯ лишь стремлюсь[24].Но вся это дробящая, разрушительная сила ума, столь видимо господствующая здесь и действующая с такой уверенностью, приводится в движение могучей и пламенной фантазией, и в самой глубине этой силы таится душа поэта. Вера Байрона была ему так же кстати, как и его скептицизм. С истинно поэтическою наивностью соглашается он с древнееврейскими сказаниями в том виде, в каком они есть: В их образах он видит не символы, а действительность, и поступает искренно, приступая таким образом к делу. Это удается ему без труда, потому что скептицизм его постоянно, даже в самой поэзии, оперирует на почве традиции и имеет ее своею основой. Притом же и направление его ума, и его душевная жизнь были ветхозаветного характера. Из груди его вырывались жалобы, подобные жалобам Иова, когда его утешали и увещевали друзья; подобно Давиду, он день и ночь взывал о мщении, «Еврейские мелодии» служат прекрасным свидетельством того, как иудейский образ мыслей соответствовал его чувствам.
Между тем как Байрон, не мудрствуя лукаво, соглашается с традицией, предварительно подчинив свой разум её авторитету, в его произведениях человеческий разум старается освободиться от этого авторитета, снова зажить самостоятельной жизнью, видим, как он страдает под гнетом этого авторитета и как он сокрушает его. И это зрелище делается тем привлекательнее, что этот разум еще молод и так недавно еще родился на свет Божий. На истинного поэта так сильно действует восход солнца, как будто он видит его в первый день творенья. Все сомнения и вопросы Байрона дышат такою свежестью, что их можно вложить в уста первому человеку, когда его начали впервые мучить вопросы и сомнения. Чтобы воплотить в форму эти сомнения и жалобы, потребовался длинный ряд человеческих поколений, терзавшихся и стонавших под суровым игом жизни. Но влагая здесь в уста первого возмутившагося существа все накопившееся веками страдание, все вековые муки, вынесенные свободным человеческим разумом под гнётом преследований, он высказывает все это таким первобытным и наивным образом, как будто вся работа мысли миллионов людей уже завершена была этою первою мыслящею головою. Это могучее противоречие, прежде всего, поражает вас в поэме.
Само собою разумеется, Байрон не имел в виду написать что-нибудь богохульное, да и было-бы безумием подвергать критике Высшее, Всеобъемлющее Существо. В «Каине» он борется только за ту идею, что порядок, существующий в природе, отличается этическим характером, но что добро, вместо того, чтобы быть целью человеческой жизни, стало лишь её сродством. С болью в сердце говорит он о бесконечной горечи человеческого бытии. В основе этого произведения лежит не пессимизм, как назвали это чувство пустым и ничего не выражающим словом, но глубокое чувство роковых человеческих страданий. В душе Байрона нет озлобления против мировой силы, которая творит только затем, чтобы разрушать; в ней и коре, и живот глубокое безграничное сострадание ко всеобщему горю, которому нельзя помочь и от которого не куда бежать. В мистерии «Каин» лежит глубоко трагическая основа, что человек родится, страдает, грешит и умирает. Байрон мотивирует здесь библейское сказание. Адам и Ева наказаны должным образом, Авель послушный и тихий мальчик. Каин молодое человечество, которое мыслит, анализирует, жаждет и требует. Он должен принять участие в благодарственной молитве. За что прославлять и молиться? За жизнь? Но разве я не должен умереть? За жизнь? Да разве я желал жить. За жизнь? Да разве я еще не в раю? – Почему я страдаю? За грех Адама? Да я то тут при чем? Для чего он пошел на это гибельное искушение? Ну, хорошо! Так я, по крайней мере, не буду притворяться довольным в своем ничтожестве, не буду показывать, что я рад своим страданиям. Война против всех и всего, смерть всем, болезнь для большинства, мучение и скорбь, – вот плоды запрещенного дерева. Так разве жребий человека не жалок? Только одно добро получили мы от рокового яблока: разум. Но кто станет гордиться разумом, который телесными узами прикован к жалкой массе и жалким потребностям существа, для которого нет выше наслаждения, как самоунижение и погоня за какими-то обманчивыми призраками. А тут еще тебя тревожит мысль, что все эти бедствия будут расти все больше и больше и передаваться по наследству. Видеть первые слезы и знать, какое море слез должно еще пролиться!
Таково душевное настроение Каина перед тем, как ему нужно приносить жертву; оно поддерживается и развивается в нем еще более речами Люцифера. Люцифер этот – не дьявол. Он сам говорит о себе: «Но кто-же станет искать зла ради самого зла? Никто! ничто! Оно – закваска всякого бытия и небытия». Он и не Мефистофель. Кроме случайной легкой шутки, он постоянно серьезен. Нет, этот Люцифер, действительно, – денница, гений знания, гордый и непоколебимый дух критики. Он – дух свободы, по довольно своеобразный. Он не прямо и открыто борется за свободу, но, подобно заговорщикам и конспираторам, борется за нее тайно, во мраке, осторожно идя по заповедным путям.
Через Люцифера «Каин» стал драмою духов. Люцифер ведет своего ученика чрез беспредельные пространства вселенной, показывает ему все миры с их обитателями, царство смерти и в тумане грядущего покоящиеся, еще не родившиеся поколения. От Каина он не требует ни слепой веры, ни слепой покорности. Он не говорит: «Сомневайся во мне, и ты будешь низвергнут, верь – и будешь возвышен!» Он не ставит веры в себя условием для спасения Каина и не требует ни коленопреклонения, ни благодарности. Он открывает лишь глаза Каину.
Затем, Каин возвращается назад на землю, и первый возмутитель оставляет первого убийцу наедине с самим собой жертвою пожирающего сомнения. Нужно принести жертву, и он должен избрать жертвенник. Но что для него все жертвенники? Одни лишь камни, да трава. Он, содрогающийся при виде страданий, не хочет заклать повинных животных, он кладет плоды на свой жертвенник[25]. Молится Авель. Нужно молиться и Канну. Что он будет говорить?
Если жертвыТебе нужны, чтоб стал ты благосклонных,Прийми ты эту жертву! Здесь два смертныхАлтарь тебе воздвигли. Может быть,Ты любишь кровь? Пастух кровь эту пролилНа алтаре…Вот мой алтарь – и я, его воздвигший,Прошу о том, что можно получитьБез всякого коленопреклоненья.Тут молния внезапно зажигает жертву Авеля, и огонь небесный с жадностью упивается кровью этого алтаря, меж тем, как вихрь ветра как-бы с презрением низвергает алтарь Каина. От гнева в Каине кровь закипает, он хочет опрокинуть жертвенник Авеля, но последний удерживает его от этого. «Прочь с дороги!» кричит ему Каин. – И обезумев от гнева, он совершает первое убийство, не сознавая того, что значит убийство, и вносит, таким образом, в человеческий мир смерть, одно имя которой, предсказанное человечеству, повергло его в ужас. Каин уже раскаялся, прежде чем преступление было совершено, так как Каин, любя всех людей, сердечно любит и Авеля. Затем следуют проклятие, кара, изгнание и каиново клеймо…
Каиново клеймо это – печать муки и бессмертия. Драма рисует борьбу страдающего человечества против роковой силы.
«Каин» был посвящен В. Скотту, который нашел, что муза Байрона никогда еще не совершала такого высокого полета, и потому на будущее время взял поэта под свою защиту от всех нападок. Но на появление «Каина» в Англии смотрели, как на истинное народное несчастие. Когда Муррей получил рукопись для издания, то настойчиво просил Байрона сделать некоторые изменения; Байрон решительно отвечал ему: «Ни то, ни другое место изменены быть не могут». Тотчас по выходе книги, явилось другое чье-то издание её, и Муррей обратился к лорду Элдону с просьбой о немедленном ограждении своего права собственности; но ему было отказано на том основании, что книга, изданная им, не принадлежит к числу тех, за самовольную перепечатку которых издатель преследуется судом. Таким образом, «Каин», подобно «Wat Tyler» Соути, был отнесен к числу произведений, по отношению к которым дало право собственности теряет свою силу.
Между тем, Мур писал Байрону: «Каин удивителен, страшен, он никогда не забудется. Если я не ошибаюсь, он глубоко западет в людские сердца». История оправдала этот приговор.
V
Когда наплыв английских туристов в Швецарию к осени 1816 года начал все более и более увеличиваться, Байрон, будучи не в силах долее оставаться там, вместе с спутником своей юности. Гобгоуэом, отправился в Италию. В Милане он сошелся с одним из остроумнейших публицистов своего времени, Анри Бейлем, на которого личность Байрона произвела такое сильное впечатление, что молодой человек невольно подчинился ему, хотя постоянно был на стороже, чтоб не увлечься преждевременно энтузиазмом Байрона» и сразу открыл в нем некоторую неестественность. «Я встретил Байрона в театре la Scala, в ложе министра Брома», говорит он; «я был его глазами в тот момент, когда он слушал секстет из оперы Мейербера «Елена». Во всю свою жизнь не видал я таких прекрасных, таких выразительных глав. Еще сегодня мне представляется эта чудная голова, когда я подумаю, какое выражение придал-бы великий художник гению. Некоторое время я был, как в чаду… Никогда не забуду божественного выражения лица его, на котором ясно отпечатывалось сознание своей силы и гениальности».
Из Милана Байрон отправился в Венецию, самый любимый город, который он прославил в четвертой песне «Чайльд Гарольда», в «Марино Фалиеро», в «Двух Фоскари», в «Оде Венеции» и наконец в «Беппо». Никогда у него на душе не было так тяжело, как теперь, и никогда он более не нуждался в забвении. Восхитительный климат и очаровательный воздух Италии в первый раз приветливо встретили его. Ему было тогда 29 лет. Венеция, с её красивыми женщинами, с её легкими нравами, вполне южною жизнью, манила к себе забыться и отдохнуть в чаду страстей от всех жизненных треволнений. Пламенное влеченье к счастью и наслаждению было в характере Байрона, а его необузданный темперамент еще более обострял это влечение. Его считали способным на всякий разврат. И он, действительно, давал массу поводов английским туристам для сплетен, от которых старые ханжи падали в обморок, но забывая все-таки писать о нем всякия гадости.
Первым своим долгом в Венеции Байрон счел обзавестись гондолой, гондольером, ложей в театре и любовницей. Последняя легко отыскалась. Он водворился на жительство у одного купца, двадцатидвухлетняя жена которого, Мариана Сегати, была, как говорили, настоящая газель с большими черными глазами. Они влюбились друг в друга, так что Гобгоузу, спутнику Байрона, пришлось ехать в Рим одному. «Я хотел ехать вместе», пишет Байрон, «по влюбился, и нужно подождать, пока это пройдет». Молодая женщина водила его с собою на все карнавальные развлечения. Он жил совсем по-венециански, проводил без сна ночи напролет, соблюдал (из страха, чтоб не потолстеть) свою обычную диэту, ел растительную пищу и истреблял значительное количество рому с водой для подкрепления сил и воображения. В это время он оканчивал «Манфреда». Печальную картину представляет его тогдашняя беспорядочная жизнь: чтобы создать какой-нибудь противовес своим развлечениям и дать какую-нибудь точку опоры своим порывам, он каждый день по нескольку часов проводил в монастыре Сан-Ладзаро, занимаясь у монахов армянским языком. Он выписал себе в Венецию свою скаковую лошадь, утро обыкновенно посвящал изучению армянского языка, а вечер верховой езде. Для катанья верхом он обыкновенно с Шелли и другими приятелями отправлялся в Лидо. Шелли в своем произведении «Юлиан и Маддало» сравнивает жизнь эту с жизнью в доме сумасшедших. Вследствие нездорового венецианского климата, Байрон заболел горячкой; с трудом расстался он с Марианой Сегати, но как вернулся в Венецию из Феррары и Рима, где пробыл очень не долго, страсть к ней совершенно исчезла, в особенности, когда он узнал, что Мариана распродала все его подарки и вообще старалось как можно больше извлечь выгоды из своей связи с ним. За время своего первого пребывания в Венеции, Байрон преимущественно посещал аристократическое общество, которое большою частью собиралось в салоне литературно-образованной графини Альбритци (Albrizzi); теперь он совсем отстранился от светского общества. Он нанял для себя и для своего зверинца палаццо на Большом Канале. Палаццо этот быстро превратился в гарем, а любимою султаншею этого гарема сделалась простая женщина, жена булочника, Маргарита Коньи. Это была в полном смысле венецианская красавица, и хотя её фигура была несколько велика, тем не менее она была чрезвычайно стройна и к ней как нельзя более шел национальный костюм. Наивная и веселая, как простой ребенок, она не умела ни читать, ни писать, и поэтому не могла надоедать Байрону своими письмами. Ревнивая до крайности, она нередко срывала маски с знаменитых дам, когда замечала их в обществе Байрона, входила к нему, когда ей вздумается, не стесняясь ни временем, ни местом, ни обществом. В одном письме Байрон говорит о ней: «Когда я познакомился с нею, у меня была связь с одной знатной дамой, которая имела глупость сделать ей какие-то угрозы. Маргарита, выведенная из себя, сорвала с её головы платок и давай ее отчитывать на все стороны на своем бесхитростном венецианском наречии. «Вы-де не его жена, и я не его жена. Вы его донна, и я его донна. Ваш муж простофиля, и мой простофиля. Как-же вы смеете ругать меня? Да разве я виновата, что он мне отдает предпочтение перед вами»? Наконец, она формально водворилась в доме Байрона, как Donna di governo (в качестве «хозяйки»), строгим порядком на половину уменьшила его расходы, важно расхаживала по палаццо в длинном платье со шлейфом и в шляпе с пером – предметы роскоши были заметною мечтою её вожделений – била девушек, старалась сама выучить азбуку, чтобы узнавать при случае как-нибудь по почерку дамские письма. Но, по смотря на все это, она страстно любила его. Её радость, когда она увидала его однажды благополучно вернувшимся из опасной морской поездки, походила на радость тигрицы, которой возвращают её детеныша». Когда Байрон, вследствие её все более и более усиливавшейся назойливости, был вынужден, наконец, удалить ее, она сначала пригрозила ему ножом, а потом от ярости и отчаяния бросилась ночью в канал. Ее вытащили во время и отправили домой, а Байрон со всеми подробностями описал эту историю Муррею; он знал, что его письма к издателю будут, подобно печатным произведениям или оффициальным актам, переходить из рук в руки и послужат богатым источником для сплетень в Англии.
Письмо это показывает, что он не погиб в этой разнузданной венецианской жизни, а, напротив, воспользовался ею, как богатою пищею для своего юмора. В истории его умственного и поэтического развития она также заняла подобающее место: в то время, как друзья его в Англии безутешно горевали, что он легкомысленно играет своим достоинством ли общественным положением, из-за бесшабашной, веселой карнавальной жизни, среди простых женщин, под улыбающимся солнцем Италии, – в его поэзии возникло новое, реальное направление. В своих юношеских произведениях он с грустью и болью в сердце рисовал лишь «отливы» жизни, в «Беппо» вдруг поднялся «прилив» её. Это был реализм юмора, жизненная действительность, вылившаяся в смехе и шутке. В его прежнем пафосе замечалась некоторая монотонность и манерность. Здесь его гений как-бы сбросил с себя старую кожу, монотонность исчезла от массы разнообразнейших беспрерывно меняющихся тем и красок, и всякая манерность как-бы слетела прочь под задушевным смехом. В его прежних сатирах была весьма достаточная доза язвительности, но замечался большой недостаток в грации и юморе. Теперь, когда его собственная жизнь приняла на некоторое время характер карнавального празднества, грация и юмор сами собою проявились в его произведениях. «Беппо», – это сам венецианский карнавал, – та старая тема, на которую Байрон, подобно Паганини, натолкнулся на своем жизненном пути, поднял концом своего божественного смычка, украсил массой смелых и гениальных вариаций и в изобилии осыпал перлами и золотыми арабесками. Он как раз в это время изучал английскую комическую поэму о короле Артуре и рыцарях круглого стола, автор которой, дипломат Джон Фрир, подражал здесь обработке итальянца Берни боярдовского «Неистового Роланда», поэмы, впервые написанной октавами. Это произведение пробудило в Байроне желание попробовать свои силы на чем-нибудь подобном; таким образом явилась в свет эта художественная шутка, полная оригинальность которой окончательно заставляет забывать о её первообразе. Здесь он нашел наиболее удобную для себя форму, оружие, которым хорошо владел. О чем-же трактует поэма? Да о тех-же пустячках, о которых говорит Альфред де-Мюссе в своей «Намуне» или Палюдан-Мюллер в «Танцовщице». Сюжет самый простой. Один венецианец уезжает на чужбину от своей жены и так долго остается там, что жена успела, считая его умершим, обзавестись дружком, как вдруг он, проданный в рабство туркам, является домой в платье турецкого раба и встречает свою супругу в маскараде под руку с нежданным соперником. По окончании бала, он становится у дверей своего дома и дожидается возвращения парочки из гондолы. После того как все трое оправились от некоторого смущения, они велят принести себе кофе, и между ними завязывается следующий разговор. Лаура говорит: