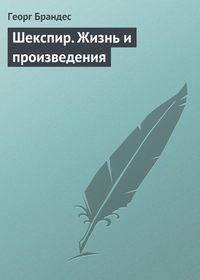полная версия
полная версияБайрон и его произведения
Таким образом, мы видим, как Чайльд Гарольд превращается в дом Жуана. Одинокий скиталец становится теперь салонным львом. Такое же сильное впечатление, как поэзия Байрона, производили в дамских кружках, конечно, и его высокое положение, его молодость и его редкая красота. В биографии Вальтер Скотта встречается следующая заметка о наружности Байрона: «Мне случалось на своем веку видеть многих лучших поэтов моей страны, и хотя у Бориса были чрезвычайно прекрасные глаза, однако никто не обладал в такой степени истинно-поэтическою наружностью, как Байров. Портреты его дают неправильное представление о нем; правда, и в них виден огонь, но огонь этот не горит. Лицо-же Байрона заключало в себе нечто такое, о чем можно только мечтать». Известно, что одна из первейших английских красавиц, в первый раз увидавши Байрона, воскликнула: «Это бледное лицо решит мою судьбу!» Женщины тщательно старались проникнуть во внутреннюю жизнь Байрона, а некоторые намеки в «Чайльд Гарольде» послужили поводом к молве, будто Байрон в Ньюстеде содержал настоящий гарем, хотя этот гарем на самом деле, надо думать, состоял всего из единственной одалиски. О его любовных приключениях во время путешествия ходила масса самых нелепых рассказов. Вследствие этого, женщины буквально брали его с бою; на его столе ежедневно появлялось множество писем от знакомых и незнакомых ему дам. Одна даже явилась к нему в одежде пажа, очень вероятно, желая походить на Каледа в «Ларе». Чтобы понять должным образом, в каком водовороте страстей приходилось ему жить, нужно припомнить его рассказ Медвину о том, как он однажды после своей свадьбы застал в квартире своей жены трех замужних женщин, «которыя», выражаясь его собственным языком, «знакомы были ему все, как одного поля ягода».
Эта жизнь, полная пустых наслаждений, была торжеством для его тщеславия, но для Байрона она была все-таки лучше покоя, потому что покой, как выражается он в «Чайльд Гарольде», это – ад для сильных душ. Не играло ли тут какую-нибудь роль его сердце? Не думаю. Любовные интриги, занимавшие в этом году Байрона и получившие некоторое значение в его позднейшей судьбе, были, как нам показывают его письма того времени, водоворотом в водовороте и, интересные сами по себе, они оставляли в совершенном покое его сердце. Лэди Каролина Лэмб, молодая женщина из высшего аристократического круга, впоследствии супруга известного государственного человека, лорда Мельборна, давно имела весьма страстное желание познакомиться с поэтом «Чайльд Гарольда». Это была взбалмошная, мечтательная, беспокойная натура, не выносившая никаких принуждений и следовавшая, без всяких рассуждений, своим первым влечениям; в этом отношении, она была в некотором духовном родстве с поэтом, который был на три года моложе её. Она была стройная и красивая блондинка с весьма приятным голосом. Все её существо, не смотря на аффектацию и эксцентричность, обладало довольно сильною притягательною силой. Она играла в жизни Байрона точно такую-же роль, как г-жа Кальб в жизни Шиллера. Её отношения к поэту настолько обратили на себя внимание общества, что мать молодой дамы не могла быть спокойна, пока они не прекратились с отъездом последней в Ирландию. Тогда Байрон написал лэди Лэмб прощальное письмо, с которого она впоследствии дала копию лэди Морган, письмо, которое крайне типично для слога Байрона в ранний период его поэтической деятельности, по в котором вряд ли психолог отыщет какие-нибудь следы языка любви. Оно очень походит на пародию гамлетовской записки к Офелии: «Если слезы, которые ты видела и на которые, как тебе известно, я не особенно щедр; если душевное волнение, с каким я прощался с тобою, – душевное волнение, которого ты не могла не заметить в продолжение всего этого потрясающего нервы события, хотя оно вполне ясно обнаружилось только, когда наступила последняя минута разлуки; если все, что я говорил и делал, и все, что готов еще сказать и сделать, если все это не достаточно доказало тебе, каковы мои действительные чувства к тебе, моя дорогая, и какими они останутся на все будущее время, то у меня нет более никаких других доказательств… Естьли что-нибудь такого на земле или на небе, что могло-бы меня так осчастливить, как твое согласие на брак со мною? Ты ведь знаешь, что я с радостью отдал-бы все сокровища и по ту, и по сю сторону могилы, и если я еще не раз повторю тебе все это, ужели и тогда я буду нспопятен? Для меня нисколько не важно, узнает-ли кто это и какое он сделает из этого употребление; слова эти относятся к тебе и к тебе только одной. Я был твоим и остался им до сих пор, никем и ничем не связанный, чтобы тебе угождать, почитать и любить тебя и вместе с тобою бежать, когда, куда и как бы ты ни захотела или приказала». Поэтому никто ни мало не удивился, когда через несколько месяцев сделалось известно, что он порвал с ней всякия связи. Его любовь была лишь рефлективною любовью, которая подобно зеркалу подражает всем колебаниям пламени, но не в силах произвести огонь. На одном балу, несколько времени спустя, лэди Лэмб случайно встретилась с Байроном. Эта встреча так сильно на нее подействовала, что она в отчаянии схватила первое попавшееся под руку острое орудие, – одни говорят ножницы, другие (Galt) разбитый стакан от желе, и поранила себе горло. После этой неудавшейся попытки самоубийства, она (по уверению графини Гвиччиоли Guiccioli) сначала обратилась с просьбою к молодому лорду вызвать Байрона на дуэль и убить его, «делая ему за это невероятнейшие обещания», но вскоре сама явилась к Байрону «отнюдь только не затем, чтобы перерезать себе или ему горло». Записка, которую она ему оставила у него на столе, не застав его дома, послужила поводом для эпиграммы Байрона «Remember theel», помещенной в его сочинениях. Пылая мщением, лэди Лэмб взялась теперь за перо и написала роман «Глепарвон», который появился в самое неблагоприятное для Байрона время, именно вскоре после его размолвки с женой, и произвел большое впечатление в умах его противников, Роман имел в эпиграфе слова из «Корсара»:
Векам же передал до позднего концаОн имя лишь одно корсара-удальца,В душе чьей, что к себе так много зла вмещала,Одна святая страсть царила и сияла.Роман этот рисует Байрона демоном притворства и злобы, наделенным всеми недостатками своих героев. При всем том она, быт может, в свое оправдание, не обошлась и без того, чтобы не сообщить его образу некоторые симпатичные черты характера. В одном месте говорится: «Будь его характер такого рода, что он позволял-бы себе что-нибудь, что могло-бы иметь вид вольности или фамилиарности, которые так часто позволяют себе мужчины, то она, может быть, боялась-бы или остерегалась его. Да и чего-же ей было бежать? Конечно, уж не пошлой лести или ветренных и легкомысленных клятв, к которым скоро привыкают все женщины, но внимания, отзывавшагося на её малейшие прихоти, топкого и в то-же время не лишенного лести уважения, приятности, нежности, которые так-же обманчивы, как и редки. И все это соединялось с могучей фантазией, с умом и остроумием, какими не обладал в его время ни единый смертный». Впоследствии, во время пребывания Байрона в Венеции, «Гленарвон» был переведен на итальянский язык, и когда цензор обратился к нему с запросом, не имеет ли он чего-нибудь против появления книги, которую, в тиком случае, можно не пропустить, Байрон, вместо всякого ответа, издал ее на свой счет. Мы встречаем лэди Лэмб еще один раз, и при странных обстоятельствах, в истории Байрона. Когда его труп был привезен из Греции в Англию и когда похоронная процессия медленным шагом двигалась из Лондона в Ньюстед, по дороге встретили ее, сидя верхом на лошадях, мужчина и дама. Дама пожелала узнать, чьи это похороны, и когда ей назвали имя покойника, она без чувств упала с лошади. Эта дама была автор романа «Гленарвон».
Легкомысленная и бесшабашная лондонская жизнь Байрона завершилась весьма роковым для него событием – женитьбою. Особенного уважения к женщине Байрон не питал всю свою жизнь; по женщина, не смотря на его своеобразную любовь, была для него преданным, самоотверженным существом, которое он с особенною любовью изображал в своих стихотворениях. И теперь судьбе было угодно, чтобы он взял себе в супруги особу скупую и крайне неподатливого характера. Мисс Анна Изабелла Мильбланк, единственная дочь богатого баронета, очаровала Байрона своей простотою я скромностью, привлекла его своею красотою и соблазнила возможностью её приданым привести в некоторый порядок ньюстедские дела; но более всего она заинтересовала его тем, что отклонила его первое предложение, а затем, но собственному побуждению, начала с ним вести дружескую переписку и, наконец, дала ему свое согласие в ответ на его крайне легкомысленное письмо, в котором он просил её руки и которое он потому отослал ей, что друг его, которому он прочел его, нашел, что письмо «хорошо написано». Из крайне гадких видов, частью тщеславных, частью филистерских, вступил Байрон в брак, который уже, судя по началу, ничего не мог предвещать доброго. Во все время перед своей свадьбой он был в крайне веселом настроении. «Я по уши влюблен», писал он одной из своих приятельниц, «и чувствую себя, как и все неженатые господа в подобном положении, как-то особенно глупо», и в другом месте: «Теперь и счастливейший из смертных, так как прошла еще всего неделя, как я обручился. Вчера я встретился с молодым Ф., тоже счастливейшим из смертных, потому что и; он обручился». Таким ребячеством отзываются все тогдашния письма Байрона, Так, между прочим, он, по-видимому. был очень озабочен вопросом о голубом фраке, в котором ему, согласно обычаям, необходимо было венчаться и которого он в то-же время видеть не мог. Меж тем, чем более приближался день свадьбы, тем тяжелее становилось у него на душе. Печальная судьба брака его родителей внушала ему преждевременный страх перед браком. Свои чувства во время венчания он изобразил в своем стихотворении «Сон», а Медвину передавал, что он дрожал во время венчанья и давал ответы совершенно не на вопросы.
«Сиропный месяц», как называет его Байрон, прошел, не омрачившись ни единым облачком. «Я провожу свое время (в деревне родителей своей супруги)», пишет он Муру, «в страшном однообразии и тишине, и занимаюсь только тем, что ем компот, шляюсь из угла в угол, играю в карты, перечитываю старью альманахи и газеты, собираю по берегу раковины и наблюдаю за правильностью роста некоторых исковерканных кустов крыжовника». Два дня спустя он пишет: «Я живу здесь с большим комфортом и выслушиваю каждый вечер проклятые монологи, которые старики называют разговором и которым мой тесть предается ежедневно, кроме тех дней, когда он играет на скрипке. Впрочем, старики здесь крайне любезны и гостеприимны. Белль[9] здорова и но-прежнему мила и весела».
Пегас чувствовал себя однако не совсем хорошо под ярмом. Молодая чета отправилась, между тем, в Лондон, устроилась там блестящим образом, обзавелась экипажами, прислугой, принимала массу гостей и пр., до тех пор, пока не явились кредиторы Байрона. 10.000 фунтов приданного испарились, как роса перед солнцем. 8.000 фунтов, которые достались Байрону по наследству, пошли по той-же дорожке! Ему даже пришлось продать свои книги. Книгопродавец Муррей предложил ему 1,500 фунтов гонорару вперед, чтобы удержать его от продажи книг, по поэт из ложной гордости отклонил это предложение. Затем, последовала в восьмой раз опись имущества. Опечатана была даже брачная постель, между тем как остальная мебель и экипажи были ужо выведены кредиторами. Среди таких-то обстоятельств, родила лэди Байрон свою дочь Аду.
Само собою разумеется, молодой избалованной наследнице и в голову не приходило, чтобы ей предстояли когда-нибудь подобные денежные затруднения. Как бы то ни было, жизнь их вначале была очень хороша. Они выезжали обыкновенно вместе, и молодая супруга терпеливо ждала в карете в то время, как муж её делал визиты. Она писала за него письма, переписывала его стихотворения и, между прочим; переписала «Осаду Коринфа». Между тем, и в мелких дрязгах тоже не было недостатка. Молодая жена, по-видимому, взяла себе в привычку обращаться к поэту с вопросами и разговорами, мешавшими ему писать, что приводило его в крайнюю раздражительность, которую она находила даже не совсем приличною. Иногда ей приходилось видеть такую вспыльчивость и бесхарактерность, о каких ей никогда еще раньше и не снилось. Раз, она видела, как он в ярости бросил свои часы в камин и изломал их щипцами; в другой раз, по неосторожности или в шутку, он выстрелил из пистолета в её комнате. К этому присоединилась еще ревность. Ей было известно, какою славою гремели его любовные интриги, да она и сама знала про его отношения к лэди Лэмб, с которой она была в близком родстве. В довершение всего несчастья, Байрон был выбран в дирекционный комитет Дрюриленского театра, и нетрудно понять, какими глазами смотрела его супруга на его постоянные деловые сношения с актрисами, певицами и танцовщицами. Особа, служившая ему, горничная лэди Байрон, которую он изобразил в своем стихотворении «А sketch» («Очерк»), сделалась настоящим шпионом, рылась у Байрона в ящиках и пересматривала его письма. В заключение, тут есть еще одно обстоятельство, к которому я и возвращаюсь.
Через месяц после рождения ребенка, лэди Байрон, по взаимному согласию, покинула беспокойное и неприятное жилище мужа, чтобы провести несколько времени у своих родителей; но лишь только она успела там водвориться, как Байрона известил её отец, что она к нему более назад не вернется. Не смотря на это, она написала ему письмо (теперь оно уже в печати), которое начиналось словами: «Dear Huck» («Милая цыпочка!») и заканчивалось не менее нежными кличками. Легко понять, как поразило Байрона это известие… Он отвечал её отцу, что в этом деле он, само собою разумеется, отцовского авторитета не признает, а ждет объяснения самой жены, которое и не замедлило сейчас-же явиться. В 18307 году, лэди Байрон открыто заявила своему мужу, что она написала ему нежное письмо только потому, что считала его за человека, страдающего какою-нибудь душевною болезнью, и что она никогда-бы не покинула его, если-бы подтвердилось её предположение; в противном-же случае, она не может с ним жить ни при каких условиях.
В одном отрывке из романа, писанного Байроном в 1817 году, находим следующие строки, относящиеся к этой эпохе: «Несколько дней спустя, она отправилась с своим сыном в Аррагонию на побывку к своим родителям. Я не сопровождал её, так как раньше был в Аррагонии. С дороги я получил от донны Иозефы очень нежное письмо, извещавшее меня о здоровья её и моего сына. Но её прибытии в замок, она написала мне еще более нежное письмо, в котором в очень нежных и достаточно кокетливых выражениях просила меня приехать поскорее к ней. Я только было собрался покинуть Севилью, как вдруг получаю, на этот раз от отца, письмо, в котором он в самых вежливых выражениях уговаривает меня порвать мои брачные связи с его дочерью. Я отвечал также вежливо, что ничего подобного мне и в голову не приходило. Тогда пришло четвертое письмо, в котором донна Иозефа сообщала мне, что письмо её отца было написано по её настоятельному желанию… Тогда в ближайшем письме я спросил ее о причинах. Она отвечала приблизительно так: «Причины тут ничего не могут поделать, хотя и нет особенной необходимости объяснять их»… Но надо согласиться, что она превосходная и оскорбленная жена. Тогда я спросил, зачем-же она мне написала перед этим два нежных письма, в которых уговаривала меня приехать в Аррагонию. Она отвечала, что это случилось потому, что она считала меня безумным, и если-бы только мне пришлось отправиться в дорогу, то я прибыл-бы без всяких затруднений в замок моего тестя и нашел-бы там нежнейшую из всех супруг и… узкую горячечную рубашку».
Лишь только супруга оставила Байрона, как он, по приговору света, сразу превратился в другого человека. Как некогда, на другой день после появления «Чайльд Гарольда», он проснулся знаменитостью, так теперь он проснулся человеком обесславленным и отвергнутым?
Как все это случилось? Причины все были на-лицо. Норвая причина была зависть, но та зависть богов, на которую древние смотрели, как на источник гибели великих людей, – но грязная, низкая людская зависть, Он был так высок и так велик, что при всех своих ошибках никогда не мог унизиться до уровня мещанской почтительности; полагаясь на свой гений и на свое счастие, он не стремился приобретать себе друзей-покровителей и равнодушно относился ко всем врагам, которые становились ему поперек дороги. Пересчитать число всех этих врагов ужо теперь не было никакой возможности. Прежде всего и более всего ему завидовали его коллеги, а из всех родов зависти литературная зависть самая ядовитая. Он осмеял их и навеки заклеймил именем писак, одних из них лишил громкого имени, а других даже возможности приобрести себе хоть в будущем какое-нибудь имя, так зачем-же теперь они будут боготворить и удивляться ему, и завивать себе кудри для венка, который им не достался? Какая радость для них стащить его теперь с золотого пьедестала знаменитости, и запачкать тою грязью, в которой они сами купаются!
В религиозном и политически-ортодоксальном обществе он долгое время был предметом подозрительных взоров и тайной ненависти. Немногие строфы «Чайльд-Гарольда», где Байрон в весьма осторожных выражениях позволяет себе высказать сомнение в некоторых преданиях, были приняты за дерзкую ересь, и против него была написана целая книга: «Анти-Байрон». Его четыре строчки, обращенные к принцессе Шарлотте с надписью: «Плачущей принцессе», напечатанные вместе с «Корсаром» и доставившие принцессе утешение в печальную годину политических передряг регентства принца, до последней степени раздражили против него всю могучую торийскую партию. До сих пор, он был храним своим «prestige'ем», как-бы каким невидимым панцирем; но теперь, благодаря бреши, которая открылась в его жизни, общественное мнение сразу каким-то чудом восстало против него.
Само собою разумеется, ладя Байрон и её родня шили душа в душу с этим обществом, и им не трудно было заклеймить именем чудовища того, кто покинул такую примерную супругу. Дошли сплетни, была высижена клевета, которая приняла определенный облик, получила ноги и крылья и отправилась гулять по белу свету, все увеличиваясь и увеличиваясь во время полета. Её голос, как говорится в знаменитой арии Базилио, из шопота превратился в свист, а из свиста в оглушительное завывание, подобное завыванию бури в горах.
Зависть против Байрона поступила на службу к лицемерию и работала под покровительством последнего. Цивилизованное лицемерие первой четверти XIX столетия, в эту эпоху религиозной реакции, было общественною силою, авторитет которой только в выборе своих средств, а отнюдь не в своем круге действий и не в активной силе уступал авторитету, которым был облечен инквизиционный трибунал. Происходило то, о чем Байрон говорит в «Чайльд Гарольде» (песнь IV, строфа 93):
Могущества земного страстиНередко гонит кис ко тьму.Добро к зло дли икс случайно,И люда многие годаДрожали строгого судаСвободной мысли, чрезвычайноСтрашились, крояся во мгле,Пугаясь света на земле[10].«Чтобы достойным образом воспеть лицемерие, говорит Байрон в «Дон Жуане» (песнь X, строфа 34), потребовалось бы сорок английских проповедников». Да и действительно, иначе-то и не могло быть в то время, которое представляет так много аналогий с эпохой, характеризующей разложение античного мировозрения, – в то время, когда старое теологическое воззрение на мир и на жизнь, подрытое и подорванное на всех пунктах наукою, будучи не в силах опереться на свою собственную внутреннюю мощь, принуждено было прицепиться к условной морали высшего общества, чтобы иметь под собою хоть какую-нибудь опору, и когда клерикальный авторитет и мещанский консерватизм походили на двух хромых, которые поддерживали друг друга. Если бросить взгляд на психологическое состояние Европы в начале этого столетия, то покажется, что все это лицемерие, зародившееся впервые между французскими эмигрантами, исподоволь развивавшееся у немецких романтиков и достигшее своего высшего напряжения во время реакции во Франции, как-бы сразу обрушилось на одного человека.
Благородный Маколей говорит по этому поводу: «Я не знаю более смешного зрелища, как британская публика, когда она находится в одном из своих моральных припадков. Обыкновенно обольщения, разводы, семейные передряги идут себе своим путем, не возбуждая к себе особенного внимания. Обыкновенно мы поговорим о скандале, на другой день прочтем о нем в газетах, а потом и совсем забудем. Но раз в шесть или семь лет добродетель наша становится на военную ногу. Мы не можем переносить, чтобы предписания религии и нравственности попирались так дерзко и безнаказанно. Мы должны устроить больверк против порока. Мы должны показать, что английский народ умеет ценить священные узы семьи. Вследствие этого, тот или этот несчастный, который ничуть не безнравственнее сотни других, к мнениям которых относятся с большой осмотрительностью, является за всех козлом отпущения. Если у него есть дети, у него их отнимают; если у него положение в обществе – его лишают этого положения; высшие классы не кланяются ему, а низшие шикают и свистят. Он является тем «бедным Макаром, на которого все шишки валятся», т. е., наказывая его, общество наказывает одновременно и всех преступников его пошиба. Мы думаем тогда не без внутреннего удовольствия о нашей строгости и с гордостью сравниваем высокую степень нравственности, на которой стоит Англия, с парижскою ветренностью. Наконец, наш благородный гнев удовлетворен. Жертва наша разрушена или лежит мертвая и добродетель наша снова засыпает на целые семь лет».
Чем сложнее были причины падения Байрона, тем проще было употреблено средство, единственно действительное во всех подобных случаях: печать. Уже по случаю его стихов к принцессе Шарлотте многие журналы осыпали его самою пошлою клеветою, а некоторые из них завели даже особую рубрику специально для грязных нападок против великого поэта. Теперь нападки на его частную жизнь получили полный простор для своей деятельности в силу анонимности, которая, вопреки всей своей неестественности и непригодности, неизбежных последствий своих, господствовала в английской прессе. Значение анонимности – только то, что всякий, жалчайший бумагомарака, который едва умеет держать перо, распространяя им ложь, будет иметь возможность приложить к своим губам моральную трубу общественного мнения и трубить в нее на тысячу ладов, голосом оскорбленной добродетели. И дело не ограничивается только тем, что является на свет божий какой-нибудь один аноним, нет, – он, при своей анонимности, может сфабриковать еще сотни других анонимов, под всевозможными подписями и на массе разнообразнейших листков; и если одного пачкуна было-бы достаточно, чтобы снабдить всю прессу подлейшими инсинуациями на одного человека, который сделался бельмом в глазах общественного мнения, то каким-то градом должны были обрушиться нападки на Байрона, если число врагов его было легион! Он вспоминал впоследствии о ругательных словах, с которыми обрушивалась на него пресса. Его называли: Нероном, Апицием, Калигулой, Гелиогабалом и Генрихом VIII, т. о. его обвиняли в всевозможнейшей жестокости, в сумасбродной свирепости, в зверской и неестественной разнузданности – словом, его описывали всеми красками, какие только имеются на палитре пошляков. Но из всех обвинений самое ужасное было то, которое успело уже проникнуть в печать и положило позорное клеймо на существо, которое ему было дороже всех, – обвинение в том, что он живет в преступной связи с своей сестрой. И при этом – никакой возможности отвечать на все эти нападки!
Сплетни переходили из уст в уста. Когда актриса Мардэйн, вскоре после размолвки Байрона, вступила на сцену Дрюрилэнского театра, то была освистана, на основании ни на чем неоснованных слухов, будто эта дама, с которой Байрон говорил всего-то каких-нибудь три-четыре раза, находилась с ним в интимных отношениях. Дошло до того, что он не смел выходить на улицу. На улице, когда он направлялся в парламент, его игнорировали решительно все, а образованная чернь даже оскорбляла.
Так как не предвиделось ни откуда никакой защиты, то он, не смотря на всю свою гордость, должен был покориться силе обстоятельств и оставить поле битвы. Он чувствовал, по его выражению, «что он по годится для Англии, если клевета, публично распространяемая, имеет свои причины; если-же она лишена основания, то Англия не годится для него». 25 апреля 1816 года Байрон сел на корабль, чтобы никогда более не возвращаться назад. – С этих пор, начинается истинное величие Байрона. Впервые вызвала его к духовной деятельности эдинбургская критика, а этим ударом он был посвящен в рыцари. Нельзя даже делать никакого сравнения между тем, что он написал до этого перелома, и тем, что написал после него; в этом он и сам признавался не раз. Несчастие, постигшее его, было ниспослано гением истории, чтобы вырвать его из опьяняющего обоготворения и окончательно устранить от всяких сношений с усыпляющим обществом и духом этого общества, против которых он более, чем кто-либо другой, вооружил страшнейшую оппозицию.