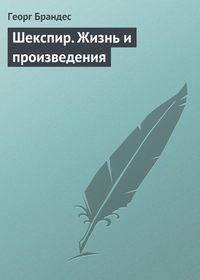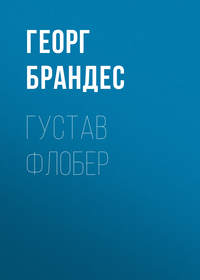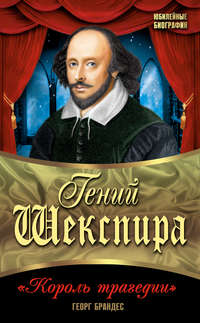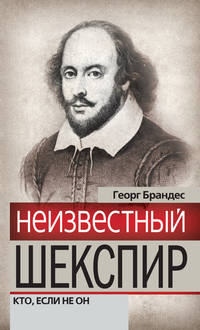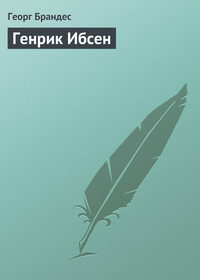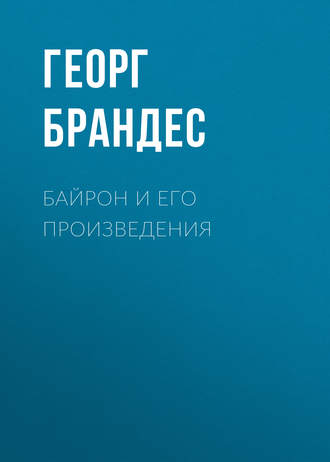 полная версия
полная версияБайрон и его произведения
Вот и все объяснение, которое получает муж на все расспросы. Но имея возможности выходить в своем костюме, он одевается в платье cavaliure servente Лауры, и история кончается всеобщим примирением. Поэма эта сама по себе не имеет особенного значения; но она была хорошей подготовительной школой для его художественного произведения «Дон Жуан», единственного из байроновских произведений, которое захватывает весь великий океан жизни с его бурями и светлыми днями, с его приливами и отливами.
Друзья Байрона делали с своей стороны всевозможные усилия, чтобы оторвать его от беспорядочной жизни и вернуть в Англию. Все увещания не повели ни к чему: вместо возвращения домой, он продал свое ньюстедское аббатство, с которым в юности никогда не хотел расставаться, и этим показал, что не намерен вовсе возвращаться на родину; он даже ужасался при одной мысли, что труп его когда-нибудь будет покоиться в Англии. Он пишет: «Я думаю, что никто не подумает консервировать или бальзамировать меня. Мои кости не нашли-бы покоя в английской могиле и мой прах не смешается с прахом этой земли. Одна мысль о том, что кто-нибудь из друзей будет ко мне так немилосерд, что перенесет меня в вашу страну, могла-бы привести меня в неистовство даже на смертном одре. Но желаю я служить добычею ваших червей». Но тут произошел случай, который непредвиденным образом положил конец полигамии Байрона, в которой он жил в Венеции, и имел решающее значение на его дальнейшую судьбу. В апреле 1819 г. Байрон был представлен, в доме графини Вентцони, молодой шестнадцати-летней графине Терезе Гвитчиоли (Guiccioli), урожденной графине Гамби, бывшей замужем за 60-ти-летним графом Гвитчиоли, который уже два раза был вдовцом.
Представление произошло вопреки желанию обоих; молодая графиня была утомлена и желала идти поскорее домой; Байрон не имел ни малейшего желания заводить новые знакомства; оба уступили только из уважения к хозяйке. Но с первой минуты, после непродолжительного разговора, в сердца обоих заронилась искра, которая с того времени никогда уже не погасала. Графиня говорит: «Его прекрасные, благородные черты лица, его мелодичный голос, все его существо и необыкновенная, чарующая прелесть, окружавшая ого, делали из него чудное обаятельное создание, какого мне не приходилось еще видеть во всю мою жизнь. С этого дня мы виделись с ним каждый вечер во время моего пребывания в Венеции». Через несколько недель, Терезе нужно было ехать с своим супругом домой в Равенну. Эта разлука до того потрясла ее, что она первый день лежала в обмороке и до того расхворалась, что ее еле живую привезли домой. В это же время она лишилась матери. У графа было много поместий и замков между Венецией и Равенной, и с каждой из этих станций Тереза посылала Байрону самые страстные письма, в которых выражала свое отчаяние по поводу разлуки и заклинала его прибыть в Равенну Она с большим чувством изображает ту решительную перемену, которая произошла в её чувствах. В то время, как прежде она мечтала только о праздниках и балах, теперь любовь к Байрону до того переменила все её существо, что она, согласно желанию Байрона, избегала всякого общества и в глубоком уединении продавалась чтению, музыке, верховой езде и домашнему хозяйству. От тоски и тревоги она опасно захворала, ею овладела изнурительная лихорадка и даже появились симптомы чахотки. Тогда Байрон отправился к ней в Равенну. Он застал графиню в положении близком к смерти: она кашляла и харкала кровью. Он пишет. «Я очень боюсь, не больна-ли она грудью. Так бывает с каждым предметом, с каждым человеком, к которому я испытываю истинную привязанность. Но если с ней случится какое-нибудь несчастие, оно не минует и моего сердца, это – моя последняя любовь. Та разнузданная жизнь, которой я предавался раньше и которою пресытился до-нельзя, имела в себе, по крайней мере, ту хорошую сторону, что я могу теперь чувствовать любовь в благороднейшем значении этого слова». Отношениями графа к молодому иностранцу все были не мало удивлены; он отличался утонченной вежливостью, давал Байрону ежедневно для прогулок экипаж, запряженный шестеркой лошадей и, по словам Байрона, носился с ним «как Виттингтон с своею кошкой». Байрон чувствовал себя вблизи любимой женщины совершенно счастливым. Превосходное стихотворение «К По», которое проникнуто таким глубоким рыцарским чувством и которое оканчивается желанием умереть в молодости, было первым плодом его новой страсти. От всей души и от всего сердца любил он, и любил как юноша, нисколько не пытаясь скрывать своего чувства или победить его. Когда графиня, в августе, должна была на некоторое время отлучиться, чтоб сопровождать своего супруга в его поездке по имениям, Байрон ежедневно бывал в доме своей возлюбленной, входил в её комнату, читал там её любимейшие книги и делал даже некоторые заметки на полях. В одном экземпляре «Коринны» нашли следующие строки: «Моя милая Тереза – я читал эту книгу в твоем саду – дорогая моя, когда тебя не было, да иначе я-бы читать и не мог. Это твоя любимая книга, и автор[26] её был мне хорошим другом. Ты не поймешь этих английских слов и другие не поймут, потому-то я и нацарапал их не по-италиански. Однако, ты узнаешь почерк того, кто тебя страстно любил, и догадаешься, что сидя над книжкой, которая принадлежит тебе, я мог… думать только о любви. В этом слове, которое прекрасно на всех языках, но прекрасней всего звучит на твоем – amor mio – заключается и настоящее, и будущее моей жизни… Думай порою обо мне, если океан и Альпы разделят нас; но этого никогда не будет, если ты захочешь». Нет нужды сравнивать это письмо с письмом к лэди Лэмб, чтобы увидеть тут язык неподдельной, искренней любви. – Когда граф в сентябре был отозван делами в Равенну, он позволил Байрону без всяких стеснений быть вместе с графиней в Болонье, а затем вдвоем с нею ехать в Венецию, где они жили под одной кровлей, так как графиня поселилась на вилле Байрона La Mira. После смерти Байрона, она в письме к Муру следующим образом говорит о тех днях: «Я не могу забыть об этом счастии, – так поразителен контраст с настоящим. Если бы ангел из обители полного небесного блаженства был послан на землю, чтобы испить тут всю чашу земных горестей, страдание его не было-бы больше того, какое пришлось мне испытывать с того самого момента, когда до моего слуха дошло страшное известие и когда я навсегда потеряла надежду увидеть снова того, взгляд которого для меня был дороже всякого земного счастья».
Молодая женщина, которой свет обязан тем, что Байрон не погиб окончательно в водовороте беспорядочной жизни, с той минуты, когда водворилась в его вилле, но всегда скомпрометировала себя в глазах своих соотечественников. Итальянский кодекс нравственности (превосходно описанный в итальянских рассказах Стендаля), позволял молодой женщине иметь атисо, даже смотрел на него, как на её настоящего супруга, но только под одним условием, чтобы было соблюдено внешнее приличие; этого-то условия она и не приняла во внимание. Выставляя себя на суд и порицание общественного мнения, она отнюдь не действовала по легкомыслью; напротив, она смотрела на свои отношения к Байрону в некоторого рода поэтическом освещении. Она видела в них задачу своей жизни, своею любовью хотела вырвать благородного и высокоодаренного поэта из омута всяких пороков и возвратить ему веру в чистую любовь. Она надеялась быть его музой. В ней кипела молодая кровь, и она была необыкновенно красива. Светлорусая с темными глазами, небольшего роста, она обладала превосходным бюстом. Американский художник Уэст, рисовавший портрет Байрона в Villa Rosa, неподалеку от Низы, описывает ее следующим образом: «Когда я рисовал его портрет, окно, освещавшее нашу комнату, вдруг потемнело, и я услыхал какой-то голос, произнесший: E troppo bello[27]. Я обернулся и увидел красивую молодую женщину, которая стояла у окна, несколько облокотившись на него, чтоб заглянуть из сада в комнату. Длинные золотистые волосы густыми прядями падали ей на лицо и на плечи; фигура её была верхом совершенства; её улыбка придавала лицу какую-то особенную прелесть, нечто романическое, не виданное мною, в особенности, когда ее обливали светом своим яркие солнечные лучи». Чем больше желала графиня выделиться из сонма всех остальных возлюбленных Байрона, тем больше стремилась она поднять его творчество в те высшие чистые сферы, в которые так редко проникал он до того времени.
Однажды вечером, когда Байрон перелистывал рукопись своего «Дон Жуана», две песни которого начаты были им еще до знакомства с графинею, последняя остановилась за его стулом и указав на место, где он читал, спросила, что там написано. Это была 187 строфа первой песни, и Байрон отвечал по-италиански: «Ваш муж идет!» – «О Боже! он идет!» воскликнула графиня и в ужасе отскочила в сторону. Ей показалось, что он говорит об её собственном муже. Но этот случай возбудил в ней желание познакомиться с «Дон-Жуаном», и когда Байрон прочел ой две первые песни во французском переводе, она заклинала его, как женщина, возмущенная цинизмом содержания, но продолжать произведения. Он тотчас-же обещал своей «диктаторше» все, что ей угодно. Это было первое непосредственное влияние, которое приобрела графиня Гвитчиоли в области поэтического творчества Байрона, – в последнем случае, впрочем, далеко не удачное; она скоро, впрочем, взяла свой запрет назад, но под условием, чтобы впредь в произведениях поэта ничего не было скабрезного, и связь с нею имела своим последствием целый ряд чудных, не умирающих памятников во всех произведениях, которые явились с того времени из-под пера Байрона. Способ, при содействии которого в «Дон Жуане» срывается покров со всякой иллюзии, беспощадное издевательство над всем сентиментальным, оскорбили графиню, как женщину, потому что женщины, по самой натуре своей, но любят, чтобы лишали последнего покрова те обманчивые призраки, которыми красна наша жизнь. Но стараясь отклонить Байрона от подобного рода творчества, которое разрушает веру в людей и ценность человеческой жизни, графиня, под влечением своей романтической натуры ко всему возвышенному, как страстная итальянская патриотка, побуждала любимого человека избирать такие сюжеты, которые возвышали-бы дух её соотечественников и воодушевляли их на освобождение отечества от чужеземного ига. По её желанию, Байрон написал (Пророчество Данте» и перевел известные стихи Данте о любви Франчески, а под её влиянием написал венецианские драмы: «Марино Фалиеро» и «Двое Фоскари», которые, хотя и написаны по-английски, по и слогу и сюжету, скорее соответствуют романской, нежели английской литературе, равно как фактически принадлежат не английской, а итальянской сцене. Это – страстные политически тенденциозные пьесы, целью которых было – расшевелить заснувших италианских патриотов и воспламенить их, чтобы все они, как один человек, восстали против своих притеснителей. Непосредственно под первым впечатлением своей любви к графине, написал Байрон и «Мазепу», возлюбленная которого носит её имя; наконец, личность её фигурирует в двух превосходнейших женских образах, созданных Байроном в этот период: в Аде («Каин») и в Мирре («Сарданапал»).
В графине Гвитчиоли Байрон отыскал воплощение того женского идеала, который постоянно носился перед ним, но которому никак не удавалось ему в своих прежних произведениях придать естественный облик. Он сам однажды сделал наивное признание лэди Блессингтон, как ему трудно доставалось создание женских идеальных типов. «Мне нравятся», говорил он, «здоровые, полные женщины, но они редко обладают красивыми, тонкими пальцами, соответствующими идеальной женщине. Поэтому, чтобы удовлетворить своей фантазии, мне приходилось самому создавать себе женщин и девушек, которые совмещали бы в себе все качества, которые так трудно встретить вместе. Затем, я люблю простых, естественных женщин, но такие обыкновенно не образованы и почти не знакомы с изящными манерами, а образованные и благовоспитанные очень неестественны. Поэтому мой выбор останавливался обыкновенно на греческих девушках, которые с неподдельною грациею и наивностью соединяют врожденную свободу мыслей и чувств». Такая смесь была невозможна и неизящна, не носила на себе почти никакого отпечатка действительности и соответствовала лишь характеру тех героев, которым поклонялись эти женщины. Все эпические произведения Байрона, начиная с «Гяура» и кончая «Осадой Коринфа», отличаются романтическим характером и сильно запечатлены личностью Байрона. Страсть обоготворялась у обоих поколений. Все эти герои, выражаясь словом Гяура, – «враки»[28], опустошенные бурею, но которые любят более вращаться среди бурь и непогод, чем прозябать в спокойной тиши; они любят не холодною любовью северных жителей, но их сердца извергают огонь и лаву. Самым рельефным представителем этих героев является благородный морской разбойник «Корсар», который гордо, с иронией и презрением, относится к человечеству, мстителен до жестокости, мучится угрызениями совести и, вместе с тем, так благороден и великодушен, что скорее сам готов идти на самые варварские пытки, чем убить спящего врага. Бандит, интересный, с таинственными чертами лица, с своей театральной позировкой и безграничным рыцарством по отношению к дамам, он как бы является байроновским профилем к шиллеровскому Карлу Моору. Его идеалу мужчины мало соответствовал король, правящий по закону в стране и окруженный придворным этикетом; последнему не доставало романтических деяний, свободной жизни на суше и на море. Поэтому Байрон взял главу пиратов и к свойствам, вытекавшим из этого ремесла, присоединил нежнейшие стороны своей собственной души: Корсар, привыкший купаться в крови, в ужасе отступает перед молодою султаншей, которая его любит, замечая у неё на лбу небольшое кровавое пятно, не потому, чтобы он мог содрогаться при виде таких пустяков, но оттого, что сам Байрон пришел бы в ужас при виде подобного зрелища. Словом, все эти юные герои и героини потому так особенно нравились толпе, что они – как кто-то сильно выразился о них – «постоянно двигаются, даже там, где у них нет и суставов». Публика не столько восторгалась пылкою страстью в лирических моментах и неподдельными поэтическими перлами, сколько невозможностью движений, лежавших вне человеческой природы. Это было удивление, каким обыкновенно награждает публика отважного акробата, который выделывает разные неестественные штуки, – штуки, от которых не трудно сломать себе шею.
Но некоторые отдельные черты этих характеров приближаются постепенно к байроновскому идеалу, начинавшему теперь слагаться в довольно определенный образ. Непоколебимая твердость Конрада в несчастиях имеет много сходного с непоколебимостью Манфреда. Он так же по хочет преклонять колен, как Канн – пред Люцифером или Дон-Жуан – пред Гюльбеею. Сострадание к меньшей братии, никогда по покидавшее души Байрона, живет в Ларе, хотя и выражается здесь больше ненавистью к тиранам, а стремление к освобождению Греции проглядывает в «Гяуре», равно как и в «Осаде Коринфа». Знаменательно то обстоятельство, что сам поэт окончил свою жизнь среди тех людей, подобных которым он воспевал. Во всех этих образах есть одна реальная черта, которая господствует во всех произведениях, примыкающих по своему духу к «Ларе, – реализм трагического. Юмор в «Беппо» – это форма, под которою реализм одерживает верх над театральностью и манерностью в его идеализме. Сочувствие к человеческим страданиям, которое мало по малу вытесняет всякий другой интерес, – это форма, в которой чувство реальной жизни окончательно поглощает собою романтизм в его произведениях. Чувство это, после разрыва с Англией, более обострилось и сделалось реальнее, чем когда-либо прежде. «Шильонский Узник» рисует нам муки, которые пришлось вытерпеть благородному Боннивару, высидевшему в продолжение шести лет в подземельи, прикованным к каменной колонне на такой короткой цепи, что даже прилечь ему было невозможно, между тел как братья его умирали неподалеку от него, точно таким же образом прикованные к ближайшим колоннам, и он не мог им подать руки помощи в последнюю минуту. Затем, последовал». Мазепа», произведение, написанное в том же духе.
Юноша, привязанный к спине дикой лошади, которая, потрясая косматою гривой, покрытая вся пеной, вихрем мчит его по лесам и полям; за ним – воспоминания о пережитых мучениях, впереди – ужасная неизвестность; оторванный от любимой девушки, в таком ужасном положении, он мучится перед нами от жажды, ран и стыда. До сих пор, Байрон ограничивался, главным образом, изображением ужасов физических страданий; даже там, где страдания, как у Боннивара, представляли духовную сторону и сюжет давал повод к изображению героического характера, он с особенною любовью останавливался на изображении чисто физических страданий. Теперь же, когда в нем пробудился энтузиазм к великим мученикам Италии, его изображение трагического приняло более облагороженный вид. В «Пророчестве Данте» рисует он жребий поэта, полный всяческих незаслуженных страданий, и заставляет поэта, несправедливо изгнанного из отечества, воскликнуть: «Вот что ожидает людей, подобных мне: в жизни пытки и бесконечная борьба, разбитое, истерзанное сердце и смерть в одиночестве»!
Уже давно занимался Байрон выработкою характера Тассо. Беглое сравнение между гетевским «Тассо» и байроновским произведением «Жалоба Тасса» показывает, с какою страстью байроновская фантазия гонялась за изображением безнадежных страданий. Гёте представляет «Тассо» пылким юношей, влюбленным поэтом, вводит его при феррарском дворе в круг красивых женщин, где он, счастливый несчастливец, возбуждает удивление и подвергается оскорблениям. Байрон рисует Тассо одиноким, разбитым, разлученным с миром, заключенным в дом сумасшедших, будучи вполне здоров, жертвою варварства своего прежнего благодетеля:
Не думал я, бродя с уединеньи,Что рок судил окончить в заточенииМне дни свои с сообществ людейБольных умом и мрачных палачей.Когда-б мой ум лишон был всякой силы,Вполне своей он стоил-бы могилы;Но кто меня в конвульсиях видал?Кто бред и смех безумный мой слыхал?Тоска пловца на береге пустынномНе так тяжка, как узы на безвинном.Пред ним простор – вселенная пред ним,Мои-же – здесь, с убожеством своим,Что превзойти всего лишь может вдвоеПространство то, что смерть отмерит мне.Он может взор на небо всеблагоеПоднять с тоской, вверяяся волне;Но узник глаз к нему не подымает,Хотя их свод тюремный и скрывает.Гёте из феррарского двора, который посещала Лукреция Борджия и где процветали в полной силе дикия страсти и суровые нравы эпохи возрождения, сделал немецкий Веймар в миниатюре, который был весь проникнут самым нежным, гуманным чувством XVIII столетия.
Взоры-же Байрона привлекались, как магнитом, возмутительным варварством герцога феррарского; ему понятна вся свирепость той бесчеловечной эпохи, и поэма его превращается в обвинительный акт против произвола и тирании. Еще более обвинительный, хотя чересчур натянутый характер приняло, наконец, изображение трагических страданий в драме «Двое Фоскари», где отец присуждает своего любимого сына ко всевозможным мучительным пыткам, и где сын, герой произведения, только затем покидает застенок, к которому он был привязан, с первой и до последней сцены, чтобы умереть в изгнании от мучительной скорби и тоски. Трагедия эта, как и все остальные трагедии Байрона, написана с строгим соблюдением всех правил Аристотеля и совершенно в духе французских трагедий; Байрон был убежден, что этот путь единственно верный и доходил даже в этом отношении до комического парадокса, утверждая, что в Англии до сих пор не было настоящей драмы. Немало удивлялись тому, что Байрон, который ничуть не менее всех других английских поэтом этой эпохи был одним из ярых натуралистов, т. е. предпочитал лес саду, естественного человека человеку, салонному, первобытное выражение страсти её специальному, небитому языку, – немало удивлялись, как он мог отличаться таким фанатизмом к Попу и небольшой группе поэтов, которые, подобно Самуэлю Роджерсу, Краббу и Кэмболю, еще держались классических традиций, как он мог, говорю, отличаться таким фанатизмом, который доходил у него до подражания самому стилю прошлого. Байроновский дух противоречия был первою тому причиною. Придерживаясь в эстетике старинной системы и делая одновременно успехи во всех других отношениях, Байрон имеет некоторое сходство с Арманом Каррелем, который, будучи ultra-свободным мыслителем во всех политических и религиозных вопросах, боролся против новой школы в литературе. Так оба они, занимая место в наиболее развитых областях, смотрели почти на все глазами Франции XVIII века; для них было не трудно прийти к согласию на одном каком-нибудь пункте, которым отстаивался литературный застой. Между прочим, вероятно, эта теоретическая решотка невыгодно повлияла на его итальянские драмы. Они состоят из монологов и декламации. Гений Байрона, взятый вместе с патриотизмом графини Гвитчиоли, не могли ничего более сделать, как окрасить их некоторым общим поэтическим колоритом.
Но зато, при разработке «Каина» и «Сарданапала», молодая графиня была действительно, как она надеялась, музою Байрона. Лучший характер во всем «Каине» – Ада. В то время, как мужские характеры Байрона, – и это не раз было замечаемо, – все походили друг на друга, его женские образы – это нередко оставалось незамеченным – отличаются в высшей степени разнообразным характером. Ада – не Каин в женском образе, хотя она – единственная женщина ему под пару. Женский образ Каина – это гордая, непреклонная Аголибама в мистерии «Небо и земля». Но как Каин видит везде уничтожение, так Ада видит везде возрождение, любовь, прозябание, счастье. Кипарис, листья которого шатром склонились над головою малютки Еноха, кажется Каину деревом печали; Ада жe видит в нем только тенистый приют для своего ребенка. После того, как Каин высказал свои отчаяння слова, что чрез Еноха должны будут войти в мир все бедствия и несчастья, Ада говорит:
Каин, видишь-ли, как онХорош, силен, как радостен и весел,Как на меня похожа, он, на тебя,Когда не мрачен ты.Ада так мало говорит, что все её реплики, взятые вместе, не займут и восьмой части листа. Когда Каину представляется выбор между знанием и любовью, она говорит: «Каин, выбирай любовь!» Когда Каин убил Авеля и стоит, проклятый и отверженный, она на его слова: «Оставь меня», отвечает: «Но ты, ведь, всеми оставлен!» Услыша страшное проклятие ангела, Каин остается безмолвным, но Ада открывает свои уста и говорит:
Это выше сил!С лица земли его ты прогоняешь –И должен он от Господа скрываться…Изгнанник и скиталец… Всякий встречныйУбьет его.Второй образ, в котором еще сильнее чувствуется влияние графини Гвитчиоли, это – греческая невольница Мирра в «Сарданапале», это – лучшая из исторических трагедий Байрона. Презирая мир и людей, гордый Сарданапал беспечно предался жизненным удовольствиям. Военную славу он презирает: он не желает покупать так-называемое великое имя кровью тысяч неизвестных людей; он не хочет, чтобы ему, подобно его предкам, поклонялись, как божеству. Его индифферентное высокомерие доходит до неблагоразумия. Когда у возмутившагося прорицателя был отнят меч, он возвращает его с словами:
А между тем, возьми свой мечь обратноИ знай, что я священству твоемуВоинственность твою предпочитаю,Хотя ни то и ни другое мне,Не по сердцу.Его мужество, по-видимому, слабеет от развратной жизни, когда мирра, молодая гречанка, его любовница и рабыня, решается его спасти; она заклинает его бросить свое равнодушие и вооружиться для защиты от своих врагов. Она столько-же страдает от того, что любит его, сколько от того, что она – рабыня.
За что его люблю и? ДочерямМоей земли герои только милыИ дороги. Но где-ж моя земли?Рабыни все теряет, лишь окопыОстались ей. Да, я люблю ого,И нет звена тяжеле в длинной цепи,Чем ты любовь, где упованья нет!..………….Я в собственных глазахУпала так, отдавшись иноземцу.И, между тем, я, кажется, егоЛюблю сильней за то, что ненавидимОн варварским народом.Но когда, наконец, враги приближаются к городу, и Сарданапал, сняв свой неуклюжий меч и тяжелый шлем, легко-вооруженный и с обнаженной головой, кидается в битву и бьется, как герой, Мирра торжествует, словно с её души сваливается бремя позора:
Нет, на душу позораЯ не бору – нет, не бесчестна яТем, что люблю такого человека!……….Да, ежели АлкидПокрыл себя стыдом за-то, что в платьеМедианки Омфалы наряжалсяИ пряжу прял её веретеном,То человек, который, бывши с детстваДо зрелых лет у женщин на руках,Становится внезапно ГеркулесомИ с пира в бой, как в брачную постель,Кидается – вполне, вполне достоин,Чтоб в девушке-гречанке он нашелЛюбовницу, и в греческом поэте –Певца себе, а в греческой могиле –Свой памятник….Пророческие слова для самого поэта! И разве слова эти не так-же приложимы к самому поэту, как здесь к его герою, что он знал тысячи женщин, но до сих пор по знал ни одного женского сердца?