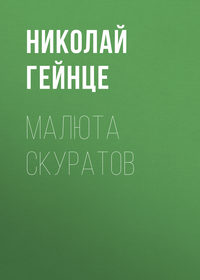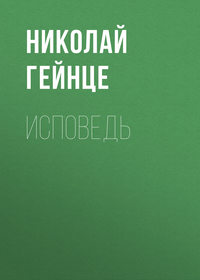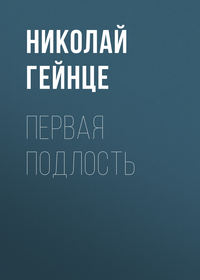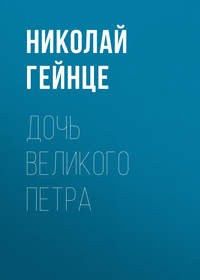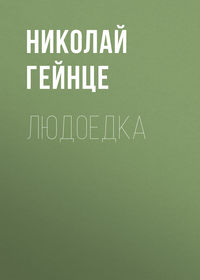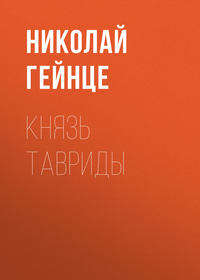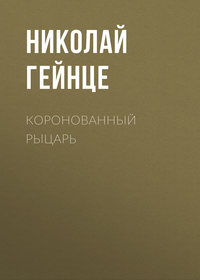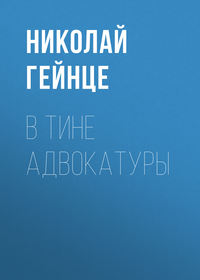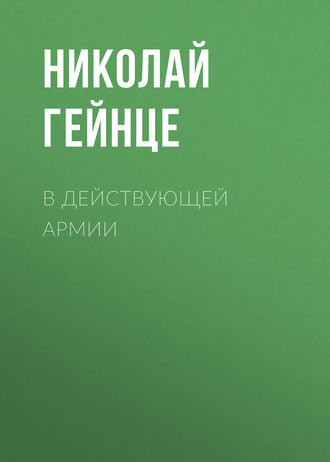 полная версия
полная версияВ действующей армии
– Куда был ранен ваш отец?
– Спросите лучше, куда он не был ранен? В него попала шрапнель, причём он был ранен тридцатью шестью пулями, в грудь, в живот, в обе руки и обе ноги, а дистанционная трубка снаряда врезалась ему в левую сторону груди. Из висевших у него на шее на золотой цепочке образков, пять были повреждены пулями, а на одном оттиснулся отпечаток золотой цепочки.
– В официальном сообщении было сказано, что он жил двадцать минут…
– Это ошибка… Он был убит на месте… Рядом с ним стоял на верху сопки – это было у Ляндинсяна – начальник его штаба полковник Ароновский. Силою взрыва шрапнели он был отброшен далеко от отца… В это время поднимался на сопку ординарец отца, сотник Нарышкин, и вдруг увидел столб пыли и падение двух офицеров. Полковник Ароновский, по счастью, не раненый и не контуженный, вскочил и крикнул: «Генерал убит, носилки!..»
– На войска это известие, вероятно, произвело страшное впечатление? – спросил я.
– Да, солдаты отца очень любили, и его смерть действительно, поразила их… Мне рассказывали любопытную подробность. У отца как будто было какое-то тяжёлое предчувствие… Когда он вместе с полковником Ароновским подошёл к подножию сопки, на которой ему суждено было найти смерть, он остановился как бы в раздумье, но затем махнул стеком – английским каучуковым хлыстом – и стал подниматься…
– Где вы получили известие о смерти вашего отца?
– Я был в это время в Ляояне… Мне сообщили, что отец тяжело ранен… Я поскакал к Ляндинсяну и сделал этот путь в шесть часов… На месте я узнал роковую истину… Тело отца пришлось положить в тяжёлый деревянный китайский гроб. На крышку его положили шашку, шапку и ордена, и понесли на руках до этапа. Начальник этапа хотел для дальнейшей перевозки тела дать лафет, но ввиду того, что бой продолжался, и каждое орудие могло пригодиться, гроб поставили на артиллерийскую фуру и повезли в Ляоян. Торжественна и умилительна была картина, когда печальный кортеж проезжал мимо 2 бригады 35 дивизии. Все солдаты обнажили головы и перекрестились как один человек. Выражение этих простых русских лиц красноречиво говорило о состоянии их души, и той печали, которую они испытывают. Гробу были отданы воинские почести. По прибытии в Ляоян мне с трудом удалось достать цинковый ящик, в который поставить гроб. Цинковый ящик, в свою очередь, поставлен в деревянный, и в таком виде гроб поставлен в вагон и препровождается в Россию.
Разговор перешёл на другие, менее печальные темы.
Я никогда не встречал среди представителей нашей гвардии более симпатичного, более милого, более привлекательного человека, и вместе с тем увлекательного рассказчика, как граф Александр Фёдорович Келлер.
Несмотря на его офицерские эполеты, он не достиг ещё гражданского совершеннолетия – ему нет двадцати одного года, но вместе с тем всестороннее образование его прямо поразительно – он не только свободно говорит и читает на трёх языках: французском, немецком и английском, но успел прочесть на них очень много, знаком с русской и иностранной литературой, со всеобщей историей, философскими учениями и естественными науками, увлекается химией, физикой и оккультными знаниями, ища между ними связи, в существовании которой он убеждён.
Наряду с этим он любит свой полк, с одушевлением говорит о полковой жизни, о праздниках и попойках.
Словом, он не рисуется своими знаниями, столь разнообразными и редкими для молодого офицера – приобретение их было для него, видимо, не трудом, а удовольствием.
Беседа коснулась обнаруженного нами в настоящей войне незнания сил противника.
– Мне по этому поводу, – сказал молодой граф, – припоминается рассказ моего покойного отца, относящийся ко времени русско-турецкой войны. Он был тогда молодым капитаном генерального штаба, участвовал перед объявлением войны России Турции в сербско-турецкой войне вместе с М. Г. Черняевым, а ко времени объявления войны находился в Кишинёве. Раз в обществе нескольких генералов, среди которых был и М. И. Драгомиров, зашла речь о предстоящей войне. Генералы заявляли, что победить турок для русских войск пустое дело. «Какие они солдаты! Побегут после первого серьёзного натиска!» Мой отец решился возразить против этого мнения, сказав, что турки, насколько он успел с ними ознакомиться, очень хорошие солдаты и притом прекрасно вооружены. «Что вы там говорите?» «Это на вас с братушками турки могли нагнать страху, а не на наши войска!» – обрушились на отца генералы. Он, как младший в чине, принуждён был замолчать. Русско-турецкая война доказала, что отец был прав.
Таким образом незнание сил противника для русских людей не новость.
Россия слишком сильна, чтобы справляться о силах врага.
XXXVII. Подарки артиллеристам
Студент с. – петербургского университета А. А. фон Гагемейстер только что исполнил интересную миссию, для которой он прибыл на театр военных действий, и возвращается в Петербург.
Миссия его состояла в раздаче подарков артиллеристам от «кружка помощи артиллеристам», организованного с самого начала войны в Петербурге вдовою генерала баронессой Е. В. Бильдерлинг и Е. А. фон Гагемейстером.
Кружок тогда же начал собирать пожертвования для нужд артиллеристов на Дальнем Востоке, причём наибольшая доля труда и суммы жертв выпала на долю учредительницы кружка баронессы С. В. Бильдерлинг.
Крупными жертвовательницами на это доброе дело были графиня Платер из Киева и графиня Баранцева из Варшавы.
«Кружок помощи артиллеристам» кроме того, что задался целью собрать пожертвования деньгами и вещами, но и решил, чтобы пожертвованные и купленные на пожертвованные деньги вещи были доставлены по назначению и переданы из рук в руки.
Это была благая мысль.
С двумя вагонами, нагруженными подарками артиллеристам, А. А. фон Гагемейстер отправился из Петербурга в далёкий и трудный путь.
Подарки эти состояли из белья, мыла, табаку, махорки, сахару, папирос, антисептических пакетов, книг для солдат, пожертвованных «обществом грамотности», макарон, табаку в кисетах, кожаного сапожного товару и инструментов для сапожного ремесла, подошв и кусков кожи для заплаток.
В офицерских пакетах-подарках заключалось по шести штук и пар всякого белья.
Кроме того для них же предназначались папиросы.
А. А. фон Гагемейстеру удалось блестяще исполнить его миссию.
Он был на всех передовых позициях в отрядах: покойного генерала Келлера, генерала Мищенко, генерала Зарубаева, генерала Штакельберг и полковника Леша.
Небольшую часть подарков он раздал в Ляояне находящемуся там артиллерийскому полупарку.
Я имел случай познакомиться с А. А. фон Гагемейстером.
Это чрезвычайно симпатичный молодой человек в студенческой форме, весь исполненный горячим желанием послужить своей родине на поле брани.
– Я хотел поступить вольноопределяющимся, но моя матушка воспротивилась этому. Я с радостью ухватился за поручение «кружка помощи артиллеристам», всё-таки надеясь принести некоторую пользу борцам на театре войны…
Отрадно видеть такое патриотическое одушевление в богатом и независимом юноше.
– Особенно оставались довольны солдатики, получившие ящики с сапожным товаром и инструментами, обрадовались очень книгам и кисетам с табаком. Некоторые кисеты были сшиты из бархата и шёлковой материи. Солдаты обыкновенно брали эти кисеты и говорили: «Так что, ваше благородие, дозвольте фельдфебелю отдать… Оченно нарядный». Я конечно дозволял, а затем уже сам обыкновенно выбирал самый красивый кисет и говорил: «Отдайте этот фельдфебелю»…
– Какие выяснились особенные нужды нашей армии? Вам, конечно, это было виднее, – спросил я.
– Я бы лично не решился вам ответить на этот вопрос, – отвечал мне А. А., – но у меня есть документ компетентного лица, а именно и. д. инспектора артиллерии маньчжурской армии генерал-майора Михеева, который вполне разрешит интересующий вас вопрос… Я покажу его вам…
И А. А. фон Гагемейстер дал мне прочесть письмо генерал-майора Михеева, в котором последний горячо благодарит «кружок помощи артиллеристам» за присланные прекрасные подарки и перечисляет на случай вторичного присыла необходимые вещи.
Вещи эти следующие: сапоги самых больших размеров, тёплые портянки, валенки, хотя бы не обшитые кожей, кожаные подошвы и лоскуты кожи для починки, сапожный товар и инструменты, полушубки, фуфайки, штаны стёганые на вате в верхней их части (для верховых), шерстяные перчатки, варежки, папахи, препараты против обмерзания; свиное сало, коллодиум в малых коробках.
Для офицеров, по мнению генерала Михеева, необходимы: фуфайки, меховые перчатки, короткие полушубки, походные сумки с целлулоидовой пластинкой и компасом.
Надо надеяться, что это указание генерала Михеева пригодится на будущее, так как не может быть сомнения, что пожертвования в «Кружок помощи артиллеристов», обставляющий такими солидными гарантиями доставку лепт добрых людей, потекут широкою волною.
Я от души желаю ему этого.
XXXVIII. Ляоян
Ожесточённый бой на ляоянских позициях снова приковывает к этому городу внимание всего мира.
Движение японцев на Ляоян не явилось неожиданностью. Его ожидало ещё в начале июня, когда из Ляояна начали массами уходить китайцы, игравшие в данном случае роль мышей на кораблях, которым предстоит опасность. Молва, как всегда, преувеличивала страхи.
Говорили о намерении японцев окружить Ляоян и создать таким образом второй Седан.
Всё это, конечно, относилось к области «вранья на войне», которое как известно, достигает геркулесовых столпов.
Но люди с натянутыми до невозможности нервами всему этому верят.
Я помню тревожную ночь на 9 июля, перед которой был возбуждён даже вопрос о переезде редакции «Вестника Маньчжурской Армии», помещавшейся в кумирне бога войны у западных ворот Ляояна, и типографии, находившейся в товарном вагоне в Тьелин.
Наутро оказалось, что опасения были несколько преждевременны.
Хорошим барометром служил в данном случае русско-китайский банк, который продолжал существовать в Ляояне.
Но и он был с первых чисел июля наготове.
В конце июля и редакция, и типография, и банк переехали в Тьелин, туда же стали вывозить все тяжести и запас, и там же искал себе помещения лазарет Красного Креста.
Словом, Ляоян уже давно приготовился к встрече врага на позициях, которые, по отзывам знатоков фортификационного дела, представляют из себя последнее слово военной обороны.
Тут имеются и окопы, и рвы, и волчьи ямы, и проволочные заграждения, и подземные мины и фугасы.
Словом, не забыто ничего для встречи «жданных гостей», но…
Об этом роковом «но» говорил мне один артиллерийский полковник, выдержавший четыре компании – русско-турецкую, ахалтекинскую, китайскую и нынешнюю – русско-японскую.
– Но, – сказал он, – увы, все эти «последние слова обороны» теряют своё значение при современных дальнобойных орудиях и «математической стрельбе», которая практикуется японцами… Они разделяют обстреливаемую местность на квадраты и засыпают эти квадраты массою снарядов…
Так действуют, несомненно, японцы и у Ляояна.
Противопоставить силе их артиллерии необходимо ту же орудийную силу.
Бой под Дашичао показал, что наша артиллерия находится на должной высоте своего признания.
Таким образом под Ляояном встретились равные силы.
И кроме того, окрестности Ляояна представляют сравнительную равнину, т. е. говоря словами поэта,
Есть разгуляться где на воле…[15]Но это далеко не значить, чтобы бой под Ляояном имел какое-либо решающее значение и чтобы оставление русскими войсками этого города что-либо изменяло в плане кампании.
Ляоян – одна из позиций, прекрасная позиция, но и только!..
Кроме того она также страдает общим недостатком маньчжурских позиций – она обходима.
Ляоян, собственно говоря, не особенно значительный китайский город, получивший европейскую известность со времён «китайских событий» ввиду проявленного его китайскими властями особого зверства над русскими. Тут был замучен инженер Верховский, голова которого долгое время висела в железной клетке у западных ворот города.
Тут изрезанные ножами умирали заживо съедаемые червями, под лучами палящего солнца, русские мученики – маньчжурские пионеры.
Во время настоящей русско-японской войны Ляояну снова пришлось играть выдающуюся роль, но уже в другом смысле.
В нём находилась главная квартира командующего Маньчжурской армией А. Н. Куропаткина.
Сам китайский город представляет из себя одну большую улицу, тянущуюся на протяжении двух вёрст от западных до восточных ворот, всю состоящую из лавок со скрытыми за ними фанзами для жилья.
Есть несколько узких и тёмных переулков и боковых улиц.
Обрусение города выражается в двух русских убогих магазинах и двух-трёх гостиницах, носящих громкие названия «Интернациональной», «Европейской» и т. п., ютящихся в плохо вычищенных китайских фанзах.
У западных ворот находится кумирня бога-войны – Ляо-Мяо, – несколько кумирен есть и в других местах города – а за ней идёт предместье.
В последнем убогие фанзы-мазанки, где снова проявляется «русский дух» в виде приютившихся в тех фанзах гостиниц-притонов, если впрочем их содержателей, в большинстве оборотистых греков и армян, можно считать за носителей даже этого «русского духа».
Всё это предместье идёт по берегу оврага, на дне которого протекает не то грязная речонка, не то большая проточная лужа. Совершенным особняком стоит русский посёлок, расположенный вокруг станции железной дороги. Он состоит из однообразных деревянных и каменных домиков, построенных по ранжиру.
Во главе их надо назвать дом командующего войсками, отличающийся и более изящной архитектурой и шпицем, на котором во время пребывания А. Н. Куропаткина в Ляояне развевается флаг.
Тут же все учреждения, почта, телеграф, разведочное отделение.
На запасных железнодорожных путях стоят вагоны, тоже служащие, лучше сказать, служившие для жилья.
Под особым деревянным навесом во время пребывания А. Н. Куропаткина стоял его поезд.
Лазаретные бараки Красного Креста находились в двух верстах от русского железнодорожного военного посёлка.
Местом прогулки и развлечения для жителей Ляояна был прекрасный тенистый сад, разросшийся вокруг древней и замечательной по своей архитектуре корейской башни.
Этот редкий живописный уголок ляоянской природы был испорчен скверным рестораном.
Нечего и говорить, что ни в городе, ни в посёлке нет ни одной мощёной улицы и во время дождей грязь стоит невылазная.
Ляоян теперь горит!
Он подожжён залетевшими в него снарядами.
Железнодорожная станция разрушена.
Мне жаль этой станции, по ещё совершенно свежим недавним воспоминаниям!
Довольно широкая и длинная деревянная платформа шла около невысокого и тоже длинного строения самой станции, большая часть которого отведена была под буфетную залу.
Рядом помещалась товарная касса. вход в которую был слева в пролёте, ведущем к выходу.
Справа находилось почтовое отделение и телеграф, а затем в особой деревянной же пристройке – багажная касса.
Над зданием станции возвышалась традиционная деревянная башенка со шпицем, на котором развевался флаг.
У платформы громыхали приходящие, отходящие и маневрирующие поезда.
И теперь ничего этого нет.
А между тем не более месяца тому назад здесь кипела чисто-военная жизнь, в которой и я принимал участие.
Тут в буфетной зале с утра до позднего вечера толпились офицеры всех чинов от генерала до безусого подпоручика и полуштатского прапорщика, призванного из запаса.
Все столики, как в зале, так, в хорошую погоду, и на платформе перед залой был заняты.
Гудел военный улей.
Передавались рассказы об эпизодах войны, об удачных и неудачных разведках, о подвигах отдельных лиц и целых частей, слышались шутки, остроты, словом, кипела жизнь по соседству со смертью, со всё приближавшимися к Ляояну передовыми позициями.
Каждый день с этих позиций появлялись здесь приехавшие офицеры.
Одни из них вследствие той или другой хозяйственно-войсковой командировки, другие легкораненые и отправленные, часто против их воли, в ляоянский госпиталь для излечения.
Рассказываются новости, сообщаются впечатления…
И так до позднего вечера, когда вся эта меняющаяся каждый час толпа людей, живущих сегодняшним днём, так как завтра их быть может ожидает могила, перекочёвывает в сад Гамартели под Корейской башней, угрюмо поднимающейся к небу и как бы сообщающей ему свои вековые воспоминания о других более ранних кровавых распрях людей.
И здесь, за столиками, отвратительно сервированными, с салфетками, напоминающими плохо выстиранные солдатские онучи, снова льются горячие речи, вместе с замороженным вином, продаваемым за баснословную цену.
И всего этого уже теперь нет!
Мне жаль Ляояна!
Это сожаление, конечно, чисто штатское и, пожалуй, немного сентиментальное.
С военной точки зрения, как я уже имел случай говорить, отступление от Ляояна предвиделось заранее и ничего не изменяет в общем плане компании.
Мне многие сегодня после прочтения телеграммы о том, что Ляоян горит, задавали вопрос:
– Что же горит в Ляояне?
Я постараюсь на него ответить.
Несомненно, что в телеграмме речь идёт не о китайском городе, где конечно могли лишь произойти пожары от залетевших снарядов, там все строения или каменные, или глинобитные, т. е. огнеупорные, а о, так сказать, новом русском Ляояне – железнодорожно-военном посёлке, правильными рядами и четырёхугольником раскинувшемся около станции.
Тут гореть, конечно, есть чему.
Во-первых, целые кварталы деревянных домиков, где жили железнодорожные служащие, офицеры, военные и гражданские чиновники; во-вторых, дом командующего войсками – обширное деревянное строение, железнодорожная больница, здание полевого штаба и, наконец, пакгаузы, где хранились запасы как специально-военные, так и продовольственные.
Большая часть их была вывезена ранее, в последних числах июля.
А перед самым наступлением японцев на позиции под Ляояном, последний уже, конечно, освободился от тех жилых помещений, которые могли быть увезены из него.
Я говорю о тех вагонах классных и товарных, которые стояли в разных пунктах обширного близ станции железнодорожного полотна, и в которых жили приезжие офицеры, иностранные агенты, помещалась столовая для последних, а в товарных вагонах находились разного рода небольшие склады, типография, где печатался «Вестник Маньчжурской Армии», вагон командующего армией, вагон его канцелярии и типографии поднесённой ему петербургской фирмой Леман.
Всё это, повторяю, выехало из Ляояна своевременно, и во многих местах русского Ляояна образовались пустыри.
Железнодорожное полотно конечно тоже разрушено.
Деревянные постройки, вероятно, горят жарко и быстро.
Сгореть всему Ляояну недолго, и японскому главнокомандующему придётся устроить свою главную квартиру, если верить берлинским газетам, на пожарище.
Мне всё же жаль Ляояна!
XXXIX. Мукден и Тьелин
Мукден или по китайскому произношению Мукде, на который, по словам телеграмм, двигается 10.000 японцев – чисто азиатский китайский город с населением в полмиллиона.
Мукден – главный город Маньчжурии с дворцом императоров маньчжурской династии, находящимся в полном запустении, и знаменитыми императорскими могилами.
Самый город выстроен по плану Пекина и разбит на кварталы, по сословиям, проживающих в них.
Главная кумирня святого Хаяма.
Мукден расположен на холме, у подножие которого протекает большая река Ляохе.
Самая местность не отличается особой живописностью – она совершенно ровная.
Город с высоты птичьего полёта имеет вид двух расположенных один на другом правильных четырёхугольников.
Во внутреннем четырёхугольнике помещается дворец цзянь-цзюня и присутственные места.
Все улицы, сравнительно широкие, и невозможно узкие переулки сплошь представляют из себя торговые ряды – лавки, лавки и лавки со всевозможными товарами.
Вонь, специально китайская вонь, невыносима, особенно в кварталах города, где расположены «обжорные лавки».
Представить даже себе, что можно потребовать те кушанья, которые там готовятся, для европейца прямо невозможно.
Я, по крайней мере, не мог без «боли сердца», как говорят французы, выносить вида и запаха этих китайских яств, которые грязные сыны поднебесной империи уплетают, видимо, с большим аппетитом.
Кроме торгового, политического, как столица Маньчжурии, город Мукден имеет ещё для китайцев и религиозное значение.
Последним он обязан «императорским могилам».
Первый железнодорожный путь шёл даже за двадцать вёрст от города, вследствие того, что китайцы не желали тревожить праха императоров шумом железнодорожного поезда, и уже только после «китайских событий» дорога прошла в расстоянии всего четырёх вёрст от Мукдена, между городом и «императорскими могилами».
Я посетил их в бытность мою в Мукдене.
Этот памятник «китайской истории» действительно интересен.
Вы въезжаете в наружные ворота, устроенные в огромной стене, и попадаете в густую аллею многовековых деревьев.
Эта аллея приводит вас ко внутренним воротам.
Здесь надо выходить из экипажа и идти пешком.
Внутренний двор огромен и весь вымощен крупными каменными плитами.
По середине его аллея, но уже не из деревьев, а из колоссальных фигур слонов, верблюдов, мулов, лошадей и проч.
Затем вход в храм.
В нём находится огромная каменная черепаха, особо чтимая китайцами.
Позади этого храма, по бокам которого находятся другие кумирни, возвышается гигантский искусственный холм – это могила Нурхаци – родоначальника ныне царствующей в Китае династии.
На вершине этого холма растёт многовековой дуб, осеняющий могилу своими густолиственными и огромными ветвями, как бы колоссальным шатром.
Под самым Мукденом, кроме того, находится буддийский монастырь с 500 лам.
В известные праздничные дни сюда стекается масса богомольцев.
Императорские могилы были любимой целью утренних прогулок наместника Дальнего Востока Е. И. Алексеева, имевшего до самого своего отъезда во Владивосток свою резиденцию в Мукдене.
Наместник жил не в самом городе, а в военном посёлке, раскинувшемся возле станции железной дороги.
Посёлок этот состоит из нескольких десятков однообразного типа домиков, среди которых по своей величине выделяется дом наместника, с развевающимся над ним флагом, и дом офицерского собрания.
Около Мукдена есть очень хорошая, по словам знатоков, укреплённая позиция.
Работы по её укреплению начались ещё с апреля месяца текущего года.
Ввиду религиозного значения Мукдена, он является сосредоточием разного рода религиозных сект, враждебных европейцам.
Здесь, как говорят, было положено начало секте «больших кулаков», руководившей восстанием 1900 года.
Война преувеличивает слух.
Если верить последним, то и в настоящее время в Мукдене образовалась религиозная секта, подготовляющая антиевропейское движение.
Так, по крайней мере, говорили в бытность мою в Мукдене, Ляояне и Харбине.
Станция Тьелин восточно-китайской железной дороги, – третья станция от Мукдена к северу.
Между Мукденом и Тьелином находятся станции Хушитой и Синьтайцзы и три разъезда.
Расстояние между этими двумя пунктами сто вёрст.
Вблизи станции Тьелин китайский город того же названия.
У Тьелина, собственно говоря, оканчивается горная Маньчжурия и постепенно начинается равнина, которая тянется до Харбина и по всей северной Маньчжурии.
Но в самом Тьелине ещё горные хребты, образующие даже, как говорят специалисты военного дела, в одном месте «дефиле», прозванное маньчжурскими Фермопилами.
– Разница только та… – замечают скептики, – что эти Фермопилы можно легко обойти.
В Тьелине устроены позиции и по всей вероятности здесь тоже разыграется бой, подобный боям у Дашичао, Хайчена и Ляояна, бой, целью которого будет задержание японской армии и её обессиление.
Для людей штатских, для профанов в военном деле отступление войска представляется чуть ли не его поражением, а между тем «искусство отступать», задерживая наступающие более значительные силы противника, высоко ценится военными авторитетами.
В мировую военную историю наряду с одержанными победами занесены и знаменитые отступления, окончившиеся истощением врага, а затем и его поражением.
Отступление с боем часто только искусная тактика, которая, увы, никогда не оценивалась большой публикой в тот же момент.
Ей давали цену лишь впоследствии, когда появлялись результаты.
Мы убеждены, что и настоящее отступление русской армии будет занесено на страницы мировой военной истории, как пример выдающейся тактики в колониальной войне, каковой несомненно является для России война с Японией на полях Маньчжурии.