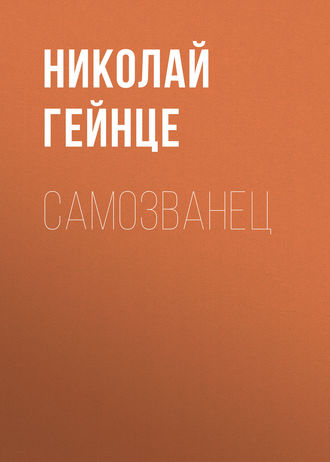 полная версия
полная версияСамозванец
Хозяин ресторана не заставил себя долго ждать и пришел в тот же день.
Они договорились на том, чтобы Савину ежедневно присылать на утро – кофе, к обеду три блюда и к ужину – два, с бутылкой красного вина или двумя бутылками пива.
За все это была назначена плата в три франка в день, а если Николай Герасимович пробудет более месяца, то восемьдесят франков в месяц.
Цена была очень недорогая, и Николай Герасимович во все время его пребывания в тюрьме святого Жиля харчился в «Gigot de mouton» у госпожи Верлен и был им очень доволен.
Правда, что присылалось все это в корзине за один раз, так что Савин вынужден был купить спиртовую лампочку для разогревания кофе утром и ужина вечером, так как все присылалось к обеду в двенадцать часов, но это нисколько не затрудняло, а напротив, это своего рода стряпанье забавляло и прекрасно убивало время.
Таков был комфорт в современной тюрьме, все же остающейся тюрьмою.
Всякий пансионер этого современного образцового учреждения должен был строго подчиняться установленным правилам, и малейшее отступление влекло за собою наказание, предусмотренное тюремным кодексом и назначаемое тюремным начальством по приговору тюремного суда.
Этот суд состоял из директора тюрьмы и двух его помощников и собирался для суждения ежедневно в десять часов утра, после рапорта надзирателей.
Режим тюрьмы святого Жиля был следующий.
Вставали все по звонку в пять часов утра. Одновременно с первым звонком появлялся и электрический свет в камере, конечно, в то время года, когда в пять часов еще темно.
Заключенный обязан был сейчас же встать, одеться, умыться и сложить свою кровать (за исключением платящих и имеющих постоянную кровать), вымести и натереть воском пол, с таким расчетом, чтобы все это было кончено к шести часам утра, ко времени раздачи кофе.
Кофе давали цикорный, с небольшим количеством молока, но без сахару. Сахар можно было покупать на свои деньги. Одновременно с кофе давали паек хлеба с фунт весом, на целый день.
С девяти часов утра начиналась отправка в суд и к следователю.
Те из заключенных, которые не вызывались из тюрьмы, шли гулять.
Прогулка делалась в специальных помещениях, куда шли заключенные один за другим цугом на расстоянии десяти шагов другот друга.
Это делалось для того, чтобы они не имели между собою никакого сообщения.
Видеть друг друга заключенные не могли, так как в коридорах им было строго запрещено оглядываться, да и кроме того, каждый из них до выхода из своей камеры, куда бы он ни выходил, обязан был надеть имеющуюся у каждого маску с капюшоном, закрывающим совершенно не только лицо, но и всю голову.
Прогулка происходила в саду, в специально устроенных для того помещениях, вроде небольших загонов или стойл без крыши, но окруженных со всех сторон каменными стенами.
В этом-то загоне каждый из заключенных гулял совершенно один в продолжение часа, а с разрешения доктора и дольше. Прогулка эта была обязательна для всех, и не ходить на нее заключенный мог только с разрешения доктора.
В двенадцать часов раздавали обед, состоящий из большой миски супу с говядиной и овощами пять раз в неделю, и два раза, по средам и пятницам, давали горох.
С часу до пяти происходил прием родственников и посетителей.
В шесть часов раздавался ужин, состоящий из полной миски печеного или вареного картофеля, а в девять часов вечера звонок извещал всех, что надо ложиться спать.
Четверть часа спустя потухало везде электрическое освещение Тюрьма погружалась во мрак и действительно засыпала, чтобы на завтра начать новый день, похожий, как две капли воды, на вчерашний.
По воскресеньям и праздникам было обязательно для всех идти в церковь к обедне, где по окончании службы аббат говорил проповедь.
Церковь была устроена так, что все шестьсот заключенных, содержащихся в тюрьме, присутствовали при богослужении, находясь каждый в отдельном запертом помещении, и не могли видеть друг друга, что не мешало им прекрасно видеть алтарь, стоящий на возвышении, и слышать богослужение.
В тюрьме была очень большая и хорошая библиотека, и заключенным давались книги и журналы по их выбору и сколько пожелают. Давались также и работы, желающим заняться таковыми, за что полагалась плата по таксе.
Заработок зависел от категории, к которой принадлежал заключенный, так: 1) заключенные, находящиеся в предварительном заключении, получали всю плату заработка за исключением 10 %; 2) приговоренные по суду, для которых работы были уже обязательны, получали заработанные деньги в таком распределении: а) приговоренные к простому тюремному заключению – ¾ заработка, б) усиленному тюремному заключению, так называемому «réclusion» – ½ заработка, и в) каторжные – всего ¼ заработной платы.
Работы эти делались каждым в своей камере и сдавались заведующему работами, от которого и получался расчет каждую субботу.
Деньги, как свои, так и заработанные, хранились в кассе, а на расходы и выписку необходимого выдавалось заключенному на руки не более пяти франков за раз.
Из этих денег они платили за все ими покупаемое в тюремной лавочке дежурному надзирателю, разносившему выписываемые продукты и вещи каждое утро.
Куренье табака, вино и пиво были разрешены, спиртные же напитки строго воспрещены.
Все заключенные до года тюремного заключения имели право носить свое платье, все же остальные обязаны были носить казенное, заключающееся из темно-серой пиджачной пары, совершенно приличного покроя и хорошего сукна. Каторжники отличались только тем, что им брили усы и бороду и на брюках у них были нашиты широкие черные лампасы.
При этом все осужденные без исключения лишались права, по вступлении приговора в законную силу, кормиться на свой счет.
Доктор ежедневно обходил всех больных, заявлявших надзирателю желание видеть врача.
При первых же симптомах какого-либо заболевания больной немедленно переводился в тюремную больницу, которая находилась в саду, отдельно от главного здания тюрьмы.
Там больные, конечно, пользовались большим комфортом и удобством, но все были так же изолированы от других заключенных, как и в большом здании, и кроме доктора, фельдшера и тюремного персонала никого не видели.
За всякое нарушение тюремных правил или непослушание администрации заключенные подвергались строгим взысканиям в виде: 1) лишения чтения, 2) прогулки, 3) куренья, 4) свидания со знакомыми и родственниками и, наконец, 5) заключения в карцер от суток до трех.
Все эти наказания налагались тюремным судом.
По рапорту надзирателя, заметившего в чем-либо заключенного, вызывались на следующее же утро как обвинитель – надзиратель, так и обвиняемый – заключенный в центральное бюро.
Там заключенный снимал перед судом маску и отвечал на возводимое на него обвинение.
Рассматривали эти дела правильно, без всякого пристрастия, и при доказанной виновности, хотя бы в самом пустом проступке, виновный был непременно наказуем.
Решения этого суда были, конечно, безапелляционными и приводились немедленно в исполнение.
XII
В тюрьме «Petit Carmes»
Вскоре после отъезда Николая Герасимовича Савина из полицейского бюро в суд полицейский комиссар пригласил к себе в кабинет оставшуюся в бюро Мадлен де Межен.
В кабинете, рядом с комиссаром, сидел у письменного стола какой-то сухой, белокурый, с небольшой клинообразной бородкой господин.
– Здешний королевский прокурор! – представил его комиссар Мадлен.
Та поклонилась.
– Прошу вас садиться.
Молодая женщина села в стоявшее у стола кресло.
Начался допрос.
И прокурор, и комиссар стали по очереди задавать ей вопросы, касавшиеся Савина и ее отношений к нему.
Видя, что ответы ее не удовлетворяют их желаниям и почти не компрометируют арестованного, они переменили тон и стали говорить молодой женщине о наказании, которое ее ожидает за тяжелое оскорбление власти в лице полицейского комиссара, которого она так бесцеремонно облила грязной водой.
– Будьте, главное, откровенны и правдивы, – заметил прокурор, – и тогда я постараюсь улучшить ваше положение, оставю вас до суда на свободе, разрешу свидание с господином Савиным.
– Я не нуждаюсь в свидании с господином Савиным, так как такого не знаю, – отвечала молодая женщина, – повторяю вами что арестованный вами именно маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин… Вы ошиблись. Что же касается до оскорбления господина комиссара, то он сам довел меня до припадка бешенства своим поведением… Арестуйте меня или отпускайте на свободу – это ваше дело… Большего, чем я показала – я показать не могу, при всем моем желании…
– В таком случае, я прикажу отвезти вас к судебному следователю… – сухо сказал прокурор.
– Делайте, что хотите и что обязаны.
Мадлен де Межен посадили в карету и отвезли в сопровождении полицейского агента в суд, к тому же господину Веленсу.
– Вы обвиняетесь в оскорблении действием полицейского комиссара и в сопротивлении властям, – сказал ей судебный следователь, приглашая сесть, – признаете ли вы себя виновной?
– Властям я не сопротивлялась, а нахала-комиссара действительно чем-то облила, но он сам вызвал это своим неприличным и недостойным мужчины и чиновника поведением…
– Так-с… – задумчиво произнес судебный следователь. – А что вы скажете мне о господине Савине?
– Ничего положительно сказать не могу.
– Почему?
– Потому, что никакого я Савина не знаю…
– Да-а-а… Я говорю о том господине, который арестован вместе с вами.
– Так это маркиз Сансак де Траверсе, а не Савин… Я повторяю и вам, что сказала комиссару и прокурору: «Вы ошиблись…»
Таким образом молодая женщина выдержала и вторую атаку опытных судейских.
Она знала, что ей грозит тюрьма, суд, скандал, но что могло все это значить в глазах любящей женщины, когда она надеялась этим спасти любимого человека.
– Вы настаиваете на этом объяснении? – сказал следователь.
– Какое же другое я могу дать? – вопросом отвечала Мадлен.
– В таком случае, мне придется подвергнуть вас личному задержанию до суда…
Ни один мускул не дрогнул на красивом лице молодой женщины.
Судебный следователь написал постановление о содержании Французской гражданки Мадлен де Межен в женской тюрьме «Petit Cannes», куда ее тотчас же и отправили с тем же полицейским агентом.
Все случившееся в этот злосчастный день так удручающе подействовало на бедную Мадлен, так ошеломило ее, что она, в сущности, не могла усвоить для себя, понять хорошенько свое настоящее положение.
Она помнила только то, что говорил ей Савин, и старалась показывать то, чему он научил ее.
«Это его спасет!» – вот мысль, которая доминировала в ея голове.
О себе она совершенно забыла. Ее «я» как бы не существовала.
После же допроса следователя и объявления им ей о том, что он отправляет ее в тюрьму, на нее нашел какой-то столбняк.
Она впала с этого момента в какое-то забытье, обратилась в живого истукана, не понимая совершенно, что с ней делается, отвечая на вопросы как-то машинально и двигаясь только по закону инерции.
Очнулась она и пришла в себя только тогда, когда почувствовала какую-то особую перемену во всем ее окружающем.
Она сначала не могла понять, что с нею, куда она попала?
Она чувствовала, что дышит какой-то новой, неизвестной ея до сих пор атмосферой, что ее обдает чем-то затхлым, спертым.
Кругом ее все было как-то чуждо, незнакомо. Даже свет был как будто не тот, который она привыкла видеть до сих пор.
Прежде всего ее поразил именно этот странный, как будто исходящий сверху свет.
Она стала вглядываться и заметила высоко над собой окно какой-то маленькой, необычайной для ее глаз формы, с какими-то поперечными полосами.
От окна ее блуждающий взгляд перешел к чистым белым стенам, к деревянному столу и табуретке, к затворенной массивной двери.
Сама она лежала на какой-то жесткой постели.
Вглядываясь во всю эту странную, незнакомую обстановку, она стала как бы пробуждаться от сна, стала припоминать о случившемся.
Она с ужасом поняла, что она в тюрьме. Ее охватило отчаяние и она горько заплакала.
Слезы всегда действуют благотворно на потрясенный организм. Поплакав, человеку всегда становится легче на душе, возбужденные нервы успокаиваются и мысли проясняются.
Так случилось и с Мадлен.
Поплакав, она почувствовала облегчение и вспомнила ее последний разговор с Савиным, его надежды на благоприятный исхож дела и его просьбу к ней быть энергичной и не падать духом.
Одновременно с этими, более спокойными мыслями, молодая женщина почувствовала страшную усталость, чего она до сих по не чувствовала, ее охватило одно желание – отдохнуть, уснуть и Мадлен, действительно, вскоре уснула.
Какая благодетельная вещь сон для несчастных заключенных. Во время сна они не только отдыхают телом и душой, но и забывают все свои несчастия, все, что их мучает, главное, то ужасное положение, в котором они находятся.
Проснулась Мадлен уже на другое утро, когда к ней вошла надзирательница, принесшая ей кружку кофе и булку.
Она ласково расспросила молодую женщину о деле, приведшем ее в тюрьму и, узнав подробности, воскликнула:
– Так это сущие пустяки!.. Вы не долго у нас погостите… Я даже думаю, что хороший адвокат может выхлопотать вам освобождение под залог до суда сейчас же…
Это напомнило Мадлен де Межен совет Савина обратиться немедленно к хорошему адвокату и к французскому консулу.
– Действительно, а я и позабыла, дайте мне бумаги, конвертов, чернила и перо, я тотчас же напишу адвокату и консулу. Да, кстати, кто у вас здесь лучший адвокат, к которому вы посоветовали бы мне обратиться?..
– Все для письма я вам доставлю сейчас, – ответила надзирательница, – но должна вас предупредить, что все письма, исключая писем к адвокату, должны быть распечатанными, так как их до отправки читает директриса тюрьмы. Только к адвокатам письма не читаются… Что же касается хороших адвокатов, то я могу назвать вам их несколько: Янсен, Фрик, сенатор Робер, Стоккарт, – все это знаменитости, но кто из них лучше, трудно сказать… Я знаю только, что берут они очень дорого и говорят на суде очень красноречиво.
С этими словами надзирательница вышла и вскоре возвратилась со всеми принадлежностями для письма.
Мадлен де Межен еще раз попросила назвать ей имена адвокатов, записала каждое имя на отдельной бумажке и, свернув их в трубочки, вынула одну из них.
На бумажке стояло имя Стоккарта.
Она написала ему и французскому консулу, а затем принялась за длинное и осторожное письмо к Николаю Герасимовичу, в котором старалась его успокоить насчет своего положения. Письмо она адресовала маркизу Сансак де Траверсе.
Эта корреспонденция рассеяла ее немного и сократила то нескончаемое время, которое так убийственно тянется в тюрьме.
Так прошло все утро, и когда она позвонила, чтобы передать надзирательнице письма, было уже обеденное время.
– Как вы желаете кушать, казенный обед или же выпишите из ресторана? – спросила ее надзирательница, взяв письмо.
Этот вопрос об обеде заставил вспомнить Мадлен, что она уже второй день ничего не ела, даже до принесенного кофе с булкой не дотронулась.
Аппетита у ней и теперь не было никакого, но все же нельзя было не есть и надо было разрешить вопрос об обеде.
Она попросила любезную надзирательницу послать за обедом в ресторан.
Час спустя та же надзирательница принесла заказанный обед и бутылку красного вина.
– Покушайте-ка, моя милая, да пойдите погулять… У нас есть садик, и заключенные гуляют все вместе в продолжение двух часов. Там есть тоже порядочные дамы, можете с ними познакомиться и поговорить, это развлечет вас и рассеет.
Пообедав, Мадлен вышла из своей камеры, вместе с надзирательницей и отправилась на прогулку в сад.
Женская тюрьма «Petit Carmes» устроена в бывшем кармелитском монастыре, вследствие чего и носит это название и находится в центре Брюсселя.
Еще до окончания времени прогулки надзирательница пришла за Мадлен.
– Пожалуйте, к вам приехал адвокат.
– Стоккарт?
– Да.
Она проводила заключенную в комнату, предназначенную для свидания арестанток с их защитниками, и оставила ее с глазу а глаз с адвокатом.
Стоккарт был молодой человек, красивой наружности, элегантно одетый.
– Я только что получил от директрисы тюрьмы с нарочным ваше письмо и поспешил явиться, чтобы поскорее познакомиться с вами и успокоить вас, – сказал он Мадлен.
– Благодарю вас… Вам, конечно, надо рассказать, в чем дело.
– О, с делом я знаком, весь город говорит о нем, все газеты полны подробностями… Я, думая, что вам будет это интересно, захватил две газеты, в которых более талантливо, живо и подробно изложено ваше дело.
Он передал ей номера «L'Indépendance Belge» и «La Reforme».
– Что же будет нам за это? – спросила Мадлен.
– Да ничего страшного, – сказал Стоккарт, – особенно вам. Господину Савину, или маркизу де Траверсе, эта проделка обойдется подороже. К нему отнесутся строже, чем к вам, и его продержат, наверное, несколько месяцев в тюрьме, но вас я надеюсь оправдать…
Переговорив затем подробно обо всем и сделав нужные заметки Стоккарт перешел к вопросу вознаграждения.
За свою защиту он назначил тысячу франков с тем, чтобы половина была уплачена вперед.
Мадлен, конечно, согласилась и дала ему записку к хозяйке квартиры на улице Стассар, госпоже Плесе, в которой просила передать господину Стоккарту некоторые вещи, деньги и чековую книжку «Лионского кредита», находящиеся в сундуке.
Все это Стоккарт должен был привезти Мадлен и получить от нее чек на условленную сумму.
Она просила его также взяться за защиту Николая Герасимовича и, главное, устроить, чтобы его не выдали России.
Стоккарт обещал сделать все, что было в его силах, и дал слово на другой же день быть в тюрьме святого Жиля, a после свидания с Савиным заехать к ней и сообщить ей обо всем.
XIII
Два адвоката
Не зная, что Мадлен де Межен обратилась за советом к адвокату Стоккарту, Николай Герасимович со своей стороны написал адвокату Фрику.
Обратился он к нему потому, что узнал, что Фрик, кроме того, талантливый защитник, депутат палаты и принадлежит к крайней левой партии, то есть ультра-либерал и сотрудник оппозиционной газеты «Реформа».
Эта-то принадлежность Фрика к враждебной клерикальному правительству партии, могла быть очень полезна Савину.
В стране, где существует полная свобода печати и где каждый может критиковать в ней всякое неправильное действие правительства и его органов, Николаю Герасимовичу было далеко не дурно заручиться защитником, имеющим голос и влияние в либеральной прессе и могущим всегда громить правительство и возмущаться его неправильными действиями относительно его клиента.
Поэтому-то Савин счел Фрика самым подходящим для него в его положении защитником.
Кроме того, его рекомендовали Николаю Герасимовичу директор тюрьмы и тюремный священник – две совершенно противоположные личности, а между тем одинаково с уважением говорившие о Фрике.
Последний не заставил себя долго ждать и к вечеру того же дня, в который Савин послал ему письмо, ответил телеграммой, что будет в тюрьме на другой день утром.
В десять часов утра на следующий день он действительно явился.
Это был высокий, худой господин лет тридцати шести-семи, смуглый брюнет с довольно правильными чертами и весьма серьезным выражением лица.
– Я знаю кое-что о вашем деле из газет, – сказал он Савину, оставшись с ним наедине в комнате свиданий с заключенными, – но, конечно, нахожу это недостаточным, а потому прошу вас обстоятельно рассказать мне все дело.
Николай Герасимович подробно передал ему весь инциндент с полицией во время его ареста, рассказал о бесцеремонности полицейского комиссара, ворвавшегося в спальню и позволившего себе назвать «кокоткой» женщину, вполне уважаемую и не давшую ему ни малейшего повода к ее оскорблению.
Насчет же главного обвинения его в ношении чужого имени Николай Герасимович объяснил, что считает это абсурдом и придиркой со стороны полиции и судебных властей, так как никто на него не жаловался и не указывал как на лицо, носящее чужое имя.
– По-моему, полиции не было никакого повода доискиваться кто я такой, раз я ничего не сделал противозаконного и наказуемого в пределах Бельгии, – заметил Савин.
– Так-то оно так, – отвечал Фрик, – но все-таки я советовал бы вам, если вы можете, достать какие-нибудь документы, удостоверяющие вашу личность. Доказав, что полиция была не права в своих подозрениях, будет несравненно легче добиться оправдательного приговора по делу об оскорблении комиссара и агентов.
– Что же касается до госпожи де Межен, – добавил он, – то я уверен в возможности освободить ее под залог. Я побываю у нее, а также у французского консула, с которым я знаком и содействие которого будет очень важно для дела.
– А сколько времени может продлиться следствие и, значит, мое предварительное заключение? – спросил Николай Герасима вич.
– Положительно ответить я вам на это не могу, но, по моему мнению, долго оно продлиться не может, так как дело, в сущности пустое. Во всяком случае, пройдет недели две-три, а до суда и все шесть.
– Однако…
– Бояться вам этого нечего, так как по нашим законам предварительное заключение засчитывается в наказание, так что в случае приговора, положим, на месяц, вы будете освобождены немедленно, так как срок наказания будет уже вами отбыт.
Это было хотя и плохое, но все же утешение.
– А ваши условия?
– Насчет гонорара я вам ничего не могу сказать, я назначу себе вознаграждение, глядя по делу, я ведь не знаю еще, придется ли мне защищать вас одного или вместе с госпожей де Межен, в одной или в двух инстанциях. Я в этом отношении очень щепетилен, – добавил он – мое правило не обдирать клиентов, брать за свой труд, что следует по работе. Кроме того, я вижу, с кем имею дело, вы со мной, надеюсь, торговаться не будете, я не возьму с вас, поверьте мне, лишнего сантима.
На этом они расстались.
Адвокат произвел на Николая Герасимовича прекрасное впечатление.
Видно было, что это человек дела, а не пустой фразер, как большая часть адвокатов.
В душе Савина возникла сама собой какая-то уверенность, что имея его защитником, он будет оправдан, так как, наверное, суд смотрит на Фрика иначе, нежели на его коллег.
Вообще, Николай Герасимович был доволен, что обратился Фрику и встретил в нем такого серьезного и симпатичного человека.
В тот же вечер Савина посетил и Стоккарт.
Он привез ему записочку от Мадлен, которую она переда ему во время свидания.
Этот адвокат представлял из себя совершенно противоположный тип серьезному Фрику.
Он был чрезвычайно подвижный, живой, любезный господин, словом, «милый малый» и ничего больше.
Такое впечатление произвел он на Николая Герасимовича.
Наговорил он с три короба, обещал непременно оправдать Мадлен и выпустить ее на днях на свободу под поручительство.
Вообще заявил, что все уладит и даже устроит отказ бельгийского правительства на требование выдачи Савина России, если бы таковое требование поступило со стороны русских властей.
– У меня большие связи в министерстве, – хвастливо заявил он, – министр юстиции мой короткий приятель… Для меня это будет делом получаса дружеской беседы.
Николай Герасимович любезно поблагодарил тароватого на обещания адвоката.
– Мне крайне жаль, – сказал он, – что защиту свою я не могу поручить вам, так как, не зная, что Мадлен обратилась к вам, я вызвал господина Фрика, который был у меня сегодня и мы с ним кончили…
– Жаль, жаль… – проговорил Стоккарт.
– Но я чрезвычайно доволен, что Мадлен сделала такой удачный выбор и надеюсь, что вы не откажетесь употребить свое влияние в министерстве по вопросу о моей выдаче… Мы с Мадлен не останемся неблагодарными.
– О, конечно, вы можете быть покойны… – заявил Стоккарт. – Располагайте мной…
– Позвольте мне писать Мадлен через вас, чтобы мои письма не были читаны в тюрьмах.
– С величайшим удовольствием… Я даже посоветую госпоже де Межен посылать и свои письма к вам через меня.
– Я буду вам очень признателен за эту услугу… Кроме того, навещайте ее чаще и успокаивайте…
– Непременно, непременно… Но через несколько дней, ручаюсь вам, она будет на свободе… Я сделаю все возможное и даже невозможное.
С этими словами Стоккарт простился с Савиным и уехал.
Ровно через неделю после ареста Савина и Мадлен де Межен их снова повезли в здание суда.
Они должны были предстать перед синдикальной камерой судебных следователей, от власти которой зависело, по рассмотрении тяготеющих над ними улик, сохранить или отменить принятую судебным следователем меру пресечения уклоняться от следствия и суда.










