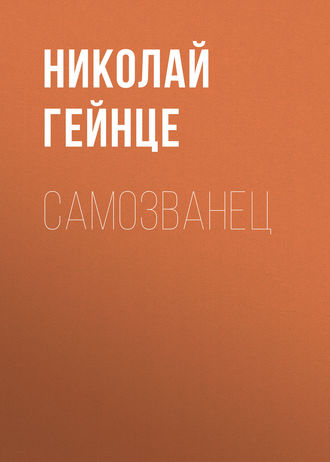 полная версия
полная версияСамозванец

Николай Гейнце
Самозванец
Часть первая
По тюрьмам
I
Таинственный пассажир
Стояло чудное утро половины мая 1887 года. В торговой гавани «южной Пальмиры» – Одессе – шла лихорадочная деятельность и господствовало необычное оживление: грузили и разгружали суда. Множество всевозможных форм пароходов, в металлической обшивке которых играло яркое смеющееся солнце, из труб там и сям поднимался легкий дымок к безоблачному небу, стояло правильными рядами на зеркальной поверхности Черного моря.
Самая людская работа, шедшая в гавани, вносила какую-то бросающуюся в глаза дисгармонию в поэтическую картину. Потные, почерневшие от угольного дыма и загара лица рабочих, их сгорбленные под тяжестью нош спины, грубые резкие окрики, разносившиеся в прозрачном, как мечта, воздухе – все говорило о хлебе и нужде, о грубости среди этих роскошных красот природы, под этим нежно голубым небом.
В гавань только что вошел пароход «Корнилов», совершавший прямые рейсы между Константинополем и Одессой, и остановился в ряду других пароходов.
На пароходе поднялась та суматоха, которая всегда сопровождает прибытие судна на конечную пристань. Пассажиры, которых было на этот раз очень много, собирали свои пожитки или же просто бесцельно слонялись взад и вперед, чтобы укоротить время до выпуска на землю, время, которое должно пройти в исполнении портовых формальностей.
Но кроме этого интереса, обычного для всех заграничных путешественников, пассажиры «Корнилова» были заинтересованы присутствием на их пароходе «невольного путешественника» в лице красивого, статного, атлетически сложенного и щегольски одетого пассажира, ехавшего из Константинополя в сопровождении каваса русского консульства – смуглого арнаута с ястребиным носом и необычайно длинными черными усами.
Пассажир занимал отдельную каюту, редко выходил на палубу, а если и появлялся там, то был молчалив и сосредоточен и никому из остальных пассажиров не пришлось с ним заговорить, если не считать нескольких пророненных им слов с некоторыми из его товарищей по путешествию.
Таинственный путешественник несколько более других говорил с капитаном парохода, но последний тоже не был из людей особенно общительных.
Говорили, что это русский, выдававший себя за границей за потомка Бурбонов и в этом качестве объявивший себя претендентом на болгарский престол, остававшийся вакантным после случившегося недавно не совсем добровольного отъезда из Болгарии принца Александра Баттенбергского.
Вопрос о том, действительно ли «красавчик» был русский или принятый за такового только по ошибке решен окончательно не был; мнения пассажиров разделились: дамы были на стороне признания его чистокровным французом, понятие о котором в дамском уме соединяется с идеалом галантного, мужественного, сильного телом и духом красавца, а к такому идеалу, по мнению пароходных дам, подходил «таинственный пассажир».
Беглый, совершенно чистый французский язык, которым говорил «красавчик», хотя при случае изъяснявшийся очень хорошо по-русски, подтверждал в глазах дам их мнение.
– Просто наши русские власти опростоволосились, – легкомысленно щебетали дочери Евы. – Везут бедного иностранца неведомо куда, а потом начнут перед ним же расшаркиваться и извиняться.
– Посмотрите, с каким величественным, молчаливым спокойствием переносит он свою тяжелую долю. Взглянуть на него, и не останется сомнения, что в его жилах течет королевская кровь. Разве что понимают в этом наши мужчины?
«Непонимающие» мужчины были другого мнения, они стояли на почве законности и не допускали ошибки в таком важном учреждении, как русское посольство в Константинополе.
– Должно быть, тонкая штука этот молодчик. Держит себя как настоящий принц крови. Чай, просто русский прогоревший барин, лопотать по-французскому сызмальства научили, а в науках не превзошел, да и на службе не годился. Дай-де заделаюсь принцем… и заделался.
Так с иронией относился к «невольному путешественнику» непрекрасный пол, но надо сознаться, что в этом отношении играло роль и ревнивое чувство, пробужденное слишком красноречивыми взглядами их жен, сестер и дочерей, бросаемыми на «красавчика».
– Куда-то теперь его повезут, бедняжку? – вздыхали дамы, когда пароход «Корнилов» уже стоял в гавани.
– Посадят молодчика за решетку! – злорадствовали мужчины.
Первой на пароходе появилась карантинная стража, которая, удостоверившись в благополучном санитарном состоянии на «Корнилове», дала надлежащее разрешение причаливать и высаживать пассажиров.
Пароход причалил к пристани, но выпуска еще не последовало. Предстоял еще жандармско-полицейский контроль.
Вскоре на пароход прибыл жандармский капитан с десятью нижними чинами и приступил к ревизии паспортов.
Эта процедура вследствие большого количества прибывших пассажиров продолжалась около двух часов, и до ее окончания никого с парохода не выпускали.
Ревизия паспортов происходила в кают-компании парохода, обращенной в канцелярию.
Пассажиры толпились в ней, и, несмотря на то, что каждый из них думал о скорейшем наступлении момента выпуска, взоры их все же от жандармов невольно переносились на сидевшего в углу кают-компании «таинственного пассажира», казалось, безучастно относившегося ко всему вокруг него происходящему.
Вдруг в толпе пассажиров пронесся шепот.
– Его превосходительство прибыл, его превосходительство!
Жандармский капитан и нижние чины подтянулись. Капитан парохода бросился встречать одесского градоначальника, явившегося самолично на пароход.
– Это за ним! – вздыхали дамы.
– Должно, важная птица этот молодчик! – умозаключали мужчины.
Адмирал Зеленый вошел в сопровождении одесского полицмейстера и начальника порта.
– Где Савин? – задал он вопрос встретившему его капитану парохода.
Не успел капитан ответить, как таинственный пассажир встал и, медленно пробравшись сквозь толпу, подошел к адмиралу.
– Вы спрашиваете обо мне, ваше превосходительство?
– Это вы Савин?.. – спросил градоначальник, оглядывая его с головы до ног.
– Нет, я не Савин, а граф де Тулуз Лотрек, но по ошибке русского консула в Константинополе арестован и препровожден сюда под этим не принадлежащим мне именем, почему считаю нужным заявить об этом вашему превосходительству, прося рассмотреть идущие со мной документы, а по рассмотрении их меня освободить.
– Так значит вы отрицаете ваше тождество с корнетом Савиным и требуете вашего освобождения?
По губам адмирала проскользнула ироническая улыбка.
– Я требую только справедливости.
– Справедливости!.. Может быть… Справедливость – хорошее слово. Но ее окажут вам другие. Я на это не уполномочен. Я должен поступить с вами, как мне поручено из Петербурга и пока принужден отправить вас в тюрьму.
Ни один мускул не дрогнул на красивом лице «таинственного пассажира». Он молча, с достоинством поклонился.
– Полковник, – обратился адмирал Зеленый к стоявшему рядом с ним полициймейстеру, – отвезите сейчас же под усиленным конвоем «его сиятельство» в тюремный замок и поступайте с ним, как я уже вам говорил.
Градоначальник особенно подчеркнул титул «пассажира», а затем, повернувшись, стал разговаривать с жандармским капитаном.
– Поедемте, – обратился к «таинственному пассажиру» вполголоса полициймейстер, – я уже приказал ваши вещи снести в карету.
Пассажир спокойной, уверенной походкой, с гордо поднятой головой последовал за полицейским офицером.
При выходе с пристани его усадили с двумя околоточными надзирателями в карету, по бокам которой ехали два полицейских верхами; полициймейстер же ехал впереди на своей паре.
Этот торжественный поезд, везший, если верить рассказам пассажиров парохода, «недавнего претендента на болгарский престол», проследовал через всю Одессу на Куликово поле, где, невдалеке от вокзала железной дороги, высились мрачные стены одесского тюремного замка.
Железные ворота замка открылись и поезд скрылся в них.
II
Сорвалось!
Сдав арестанта смотрителю замка, полициймейстер уехал, а нового тюремного обитателя тотчас же отвели в секретную одиночную камеру, в отделение тюрьмы, предназначенное для политических преступников.
Это была тюрьма в тюрьме, которой специально заведовал старший помощник смотрителя, а обязанность надзирателей исполнялась жандармами.
Помещалось это отделение в самом конце тюремного двора и представляло из себя отдельный одноэтажный корпус, в котором было до двадцати одиночных камер.
В одну из них и заперли «претендента».
Мертвая тишина царила в этом тюремном каземате, и кроме двух жандармских унтер-офицеров, сменяющихся каждые шесть часов, заключенный не видал никого первые два дня.
Наконец на третий день к нему явился помощник смотрителя.
– Почему меня держат тут в отделении политических? – спросил его арестант. – Кажется, я ни в каких политических, преступлениях не обвиняюсь?
– Не знаю, – отвечал помощник смотрителя, – таково распоряжение градоначальника.
– На каком же основании вы меня содержите? По чьему постановлению?
– Никакого постановления на ваше содержание у нас нет, а держим вас потому, что вас привез полициймейстер с приказом содержать вас в политическом отделении со всевозможной строгостью.
– Но это совершенно противозаконно, мне кажется, что с введением судебных уставов никто не может быть арестован без надлежащего постановления о том, исходящего от судебной власти, так что содержание мое в тюрьме я считаю совершенно противозаконным.
– Уж, право, не знаю, – заметил помощник смотрителя, – если вы недовольны и признаете себя неправильно арестованным, жалуйтесь прокурору.
– Конечно, мне ничего не остается делать, как обратиться за защитой к прокурору, а потому и прошу вас дать мне бумаги и письменные принадлежности для написания этой жалобы.
В тот же вечер арестованный написал прошение прокурору одесского окружного суда, в котором изложил всю неправильность его ареста в Константинополе и содержания в тюрьме и просил его, сделав дознание, освободить его из-под стражи.
После подачи этого прошения прошло с неделю, и заключенный уже терял всякую надежду на какой-нибудь результат, как в одно прекрасное – если в тюрьме может быть что-нибудь прекрасное – утро дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя с каким-то господином, одетым в штатское платье.
Заключенный встал с железной кровати, на которой лежал.
– Я прокурор здешнего окружного суда, – отрекомендовался вошедший с помощником смотрителя. – Прошение ваше я получил и счел своим долгом повидать вас. Вы находите ваше содержание под стражей незаконным?
– Совершенно верно, господин прокурор, меня содержат здесь по какому-то произволу административных властей, и я прошу вашего заступничества.
– Но вас принимают за некоего Савина, который разыскивается петербургским и калужским судами. Значит, на арест этого лица существует постановление судебных властей.
– Прекрасно, господин прокурор, на арест Савина, может быть, и есть законное основание, но отнюдь не на содержание под стражей графа де Тулуза Лотрек, а я именно и есть то самое лицо, каким себя именую.
– Чем вы докажете, что вы граф де Тулуз Лотрек, а не Савин? Можете ли вы указать на лиц, могущих это удостоверить?
– Здесь, в Одессе, я, никого не знаю, но в других местах, конечно, найдется масса лиц, знающих меня.
– Так укажите на этих лиц и места их жительства, а я распоряжусь вас немедленно отправить для удостоверения вашей личности.
– Мне кажется, что это совершенно лишнее, когда у меня есть все необходимые бумаги и формальный паспорт, удостоверяющие кто я такой, и если желают проверить подлинность этих документов, то достаточно, мне думается, телеграфировать тем официальным лицам, которые их выдали, начиная с русского консула в Триесте господина Малейна, который меня лично знает и подтвердит не только подлинность выданного им мне паспорта, но и опишет мои приметы, что докажет, что я именно то лицо, за которое себя выдаю.
– Видите ли, граф, написать, даже телеграфировать консулу в Триест я могу, но это не приведет ни к чему. Что бы ни ответил мне консул, я не в праве вас освободить, так как вы арестованы не судебными властями одесского округа, а препровождаетесь только через Одессу в Петербург. Значит и освобождение ваше зависит от петербургских властей, предписавших арестовать вас в Константинополе. Если вы не Савин, то вас по прибытии в Петербург немедленно освободят, а поэтому мой вам совет, просить о скорейшем вашем туда отправлении.
После этого визита прокурора, лопнула последняя надежда Николая Герасимовича Савина – это был действительно он – на освобождение, и ему оставалось терпеливо ждать отправки далее.
День этой отправки наконец настал.
До самой последней минуты от Николая Герасимовича ее почему-то держали в секрете. Он не знал, когда и каким образом его отправят, и на все его вопросы по этому поводу ему отвечали незнанием.
Какая была цель тюремного начальства скрывать от него это – неизвестно, но ему сказали, что он отправляется с отходящим этапом только за полчаса до его отправления.
Это было в последних числах мая. Савин уже спал, так как было около десяти часов вечера. Вдруг дверь его камеры отворилась, и к нему вошел помощник смотрителя.
– Вставайте, граф, и забирайте ваши вещи, сейчас вы отправляетесь.
– С кем, каким образом? – спросил его Николай Герасимович, протирая заспанные глаза.
– Этапным порядком, с партией, отправляющейся в Киев.
Уложив наскоро все имевшиеся при нем вещи в маленький ручной чемодан, Савин отправился в контору.
Прд воротами, по лестнице, ведущей в контору, и в самой конторе толпилось человек до ста арестантов в длинных серых халатах, с узлами и мешками в руках и у ног.
Некоторые из них были в кандалах и с бритыми наполовину головами.
Николай Герасимович впервые видел вблизи такую массу арестантов, и на него произвело это зрелище крайне тяжелое впечатление.
В конторе, освещенной двумя керосиновыми лампами, толпились арестанты и солдаты.
За длинным столом сидели начальник тюрьмы, конвойный офицер, принимающий партию, и писарь.
Перед ними лежала кипа бумаг – статейных списков, по которым они вызывали арестантов.
Каждый арестант по вызову подходил к столу, где имя его и назначение, куда он следовал, проверялось по статейному списку, а затем унтер-офицер брал арестанта и, передавая его тут же стоявшему ефрейтору, кричал:
– Обыскать и наручники!
После этого несколько человек солдат тщательно обыскивали каждого переданного им арестанта, осматривали его вещи и затем накладывали на людей попарно наручники, так что правая рука одного была связана с левой рукой другого.
От этой последней меры освобождались все принадлежащие к привилегированному сословию, нижние чины, женщины и кандальщики.
На остальных же всех без исключения и разбора, независимо от того, за что и про что они арестованы и к какой категории принадлежат, то есть пересыльные или подследственные, надевались наручники.
Сидя в темном углу конторы, Николай Герасимович с немым ужасом глядел на эту тягостную картину, ожидая своей очереди.
Когда наконец партия была принята и все арестанты вышли из конторы, к нему подошел смотритель с конвойным офицером.
– Вас также надо принять, – сказал ему последний, – покажите мне ваши вещи.
Савин открыл ему свой чемоданчик.
– У вас ничего тут нет запрещенного?
– Кажется, ничего такого нет, но я не знаю, что вы называете запрещенным?
– Ножей, орудий, карт, водки, – сказал, улыбаясь, конвойный офицер.
– Нет, ничего подобного у меня нет.
– Записать: гвардии корнет Николай Савин, в Петербург, в своем платье, – сказал штабс-капитан писарю. – Мне поручено, – обратился он снова к Николаю Герасимовичу, – иметь строжайший надзор за вами, о чем я считаю долгом вас предупредить. Надеюсь, что вы как офицер, поймете меня и не заставите меня брать против вас какие-либо меры, которые были бы неприятны как для вас, так и для меня. Я вполне сознаю, что для вас такое положение крайне тяжело, но что же делать, надо подчиняться. С моей стороны я все сделаю, что от меня зависит, чтобы облегчить ваше положение, но прошу вас подчиняться уставным правилам.
С этими словами он пригласил Савина выйти из конторы и вышел вслед за ним сам в сопровождении смотрителя.
Партия была уже выстроена во дворе тюрьмы, тускло освещенном двумя фонарями.
– Шашки вон, шагом марш! – скомандовал штабс-капитан.
Ворота растворились, и партия, звеня кандалами в ночной тишине, под темно-синим небом южной ночи, двинулась по направлению к вокзалу, находившемуся в нескольких шагах от тюрьмы.
III
В арестантском вагоне
Когда партия прибыла на вокзал, арестантские вагоны были уже поданы и арестантов немедленно рассадили по ним.
Для Николая Герасимовича Савина, по приказанию конвойного офицера, отвели отдельную лавку в вагоне, где помещалось офицерское отделение.
Арестантские вагоны своим устройством ничем не отличаются от обыкновенных вагонов третьего класса, и одни только железные решетки в окнах, да часовые, стоящие у дверей, показывают их назначение.
Товаро-пассажирский поезд, с которым отправлялась партия, уходил из Одессы в двенадцать часов ночи, так что ждать на станции пришлось около часу.
Этим временем воспользовались арестанты, чтобы достать кипятку и купить съестные припасы, после чего началось чаепитие.
В этом солдатики конвойной команды очень услужливы и не отказывают арестантам ходить на вокзал за покупками и кипятком.
Вообще русский солдат, несмотря на суровую, грубую внешность, имеет доброе сердце, и оно-то во многом облегчает участь тех несчастных, которые бывают ему вверены.
По размещении арестантов по вагонам, солдатики обращались с ними уже более гуманно: сняли наручники, услуживали чем могли и разговаривали без всякого принуждения, не изображая из себя начальства.
За чаепитием начались разговоры, рассказы, кто куда следует.
В вагоне, в котором находился Савин, помещались большей частью пересыльные арестанты.
Арестанты разделяются на категории: каторжных, бродяг, ссыльных и пересыльных.
К последней принадлежат все лица, пересылаемые по требованию судебных и административных властей, беспаспортные, а также приговоренные уже к наказанию и отсылаемые к месту заключения в тюрьмы или арестантские роты.
Как только поезд тронулся, в вагоне все преобразилось.
Сидевшие до тех пор чинно арестанты поснимали с себя ужасные серые с бубновыми тузами халаты, растворили окна и стали весело и шумно разговаривать между собой.
Вот затянули песню, которую подхватили и солдатики.
Появился табак, водка, пронесенные украдкой и продаваемые арестантам по повышенным ценам. Так, восьмушка махорки, стоящая в продаже три копейки, продавалась по двугривенному, и полбутылки водки – шестьдесят копеек.
Конечно, этой контрабандой могли воспользоваться только имущие арестанты, большинству же приходилось с завистью смотреть на этих счастливцев.
Кроме запрещенной торговли водкой и табаком, солдаты вели также торг и съестными припасами по ценам доступным для арестантов.
У них был большой запас бубликов, сельдей, вареной печенки и печеных яиц.
На этой торговле они наживали самые пустяки, только, как они выражались, «на табачишко».
Все это Николай Герасимович узнал от подсевшего к нему во время пути унтер-офицера.
Это был разбитной малый, земляк Савина – калужанин.
– Посудите сами, – говорил он, – как нам не промышлять с арестантами. Без этого мы бы без табаку и чаю насиделись, не говоря о том, что вечно и так бываем впроголодь. Чего купишь на шестнадцать копеек.
– Ну, а начальство как на это смотрит?
– Что начальство! Оно хотя и знает, да молчит, покуда все идет исправно… Есть у нас один офицер построже, ну, когда едем с ним, немного опасаемся насчет водки, про прочие продукты и он ничего не говорит… При этом же офицере, что теперь ведет партию, что хошь тащи, только чтобы было всегда все исправно, да по прибытии на место в Киев, Одессу или Брест, чтобы ничего не было заметно, а в пути дебоширь сколько хочешь… Он сам тоже мухобой-то порядочный… Клюнет, да и спит всю дорогу… За его простоту не только мы, но и арестанты его ужас как любят.
– А вам часто приходится ездить с партиями?
– Да, почитай, мы все в разъездах… У нашей киевской конвойной команды три тракта: на Москву, на Одессу, да на Брест. Свезем партию в один конец, а на следующий день принимаем обратно на Киев; ну, в Киеве дня два или три отдыхаем, а затем снова в отправку.
– А всегда у вас такие большие этапы, как сегодня?
– Какой же это этап, сто двадцать человек! Бывают этапы в триста, четыреста арестантов, так что смен не хватает на посты к вагонам, и приходится солдатикам стоять бессменно всю дорогу на посту. Тяжелая наша служба! – вздохнул унтер-офицер.
– Почему же вся эта служба лежит на киевской команде, а не на одесской, брестской и других?
– В Одессе конвойной команды совсем нет, ну, а брестская и московская имеют свои тракты. Брестская в нашу сторону и не ходит, она препровождает на Вильну и Белосток; московская же сдает нам этапы в Курске и принимает от нас этапы там же. Вот поедете дальше на Москву, так увидите.
– Значит и в Курске бывает пересадка?
– Нет, там мы сдаем прямо с вагонами, в Киеве же бывает отдых, и вам придется три дня дожидаться московского этапа.
– Из Киева, значит, мы с вами опять поедем до Курска?
– Да, с нашей же командой, но не с нами. Мы с теперешним офицером поедем днем раньше вас в Брест, а вы отправитесь с другим нашим же офицером, капитаном Ивановым.
Болтая таким образом, Николай Герасимович напился с унтер-офицером чаю и закусил, угостив его настоящими турецкими папиросами, имевшимися у него из Константинополя.
Куренье ему было разрешено, как в одесской тюрьме, так и конвойным офицером, и у него, к счастью, еще был запас прекрасных египетских папирос.
Именно, к счастью, потому что не будь их, Савину нечего было бы курить, так как денег при нем почти никаких не было.
При аресте его в Константинополе, у него были отобраны все документы, ценные вещи и деньги и все это было опечатано и отправлено в Петербург.
Когда же перед отъездом он стал просить консула Логовского дать ему денег на дорогу, тот ответил:
– Вам деньги ни к чему, повезут вас на казенный счет и вам все будет, об этом уже сделано распоряжение.
Действительно, распоряжение было сделано.
С Савина за перевозку денег не спрашивали, но отправили по этапу, выдавая ему на харчи «дворянский порцион», то есть пятнадцать копеек в день.
В консульстве, однако, отбирая у него деньги, оставили ему мелочь, бывшую в жилетном кармане.
Этой мелочи было: три меджидие и несколько пиастров, которые Николай Герасимович и разменял у буфетчика на «Корнилове», за что получил семь рублей двадцать копеек.
На эти деньги он мог купить себе в Одессе чаю, сахару, жестяной арестантский чайник и стакан, да пользовался улучшенной пищей во время его двухнедельного пребывания в одесской тюрьме прибавляя к получаемому им порциону по пятнадцати копеек день.
Эти расходы истощили и без того тощий его капиталец, так, что при отправке его из одесской тюрьмы Савину выдали на руки только всего рубль двадцать копеек его собственных денег, да на три дня впредь порциону – сорок пять копеек.
Вот все, что было у него в кармане при отправлении его этапом в дальний путь.
Понятно, что он не мог роскошничать, а должен был удовольствоваться покупкою яиц и бубликов у солдат, запивая дешевеньким чайком вприкуску.
IV
Газетный фельетон
В том же вагоне, где находился Николай Герасимович, ехал еще один арестант из привилегированных, некий дворянин Лизаро, с которым Савин вскоре познакомился.
Сначала он не обратил на него внимания, так как Лизаро был одет в арестантский халат, но когда он снял с себя его и оказался в весьма потертом пиджаке, то этот туалет, редкий между арестантами из простых, бросился в глаза Николаю Герасимовичу, и он спросил унтер-офицера, указывая на арестанта в пиджаке:
– Кто это такой?
– А это дворянин Лизаро, тот, знаете, который на семи женах женат.
– Как на семи женат?
– Да вы разве не читали в ведомостях? Его уже судили в трех местах за это, а теперь везут еще в остальные места судить.
Конечно, такие слова унтер-офицера заинтересовали Николая Герасимовича, и он познакомился с этим семиженцем.










