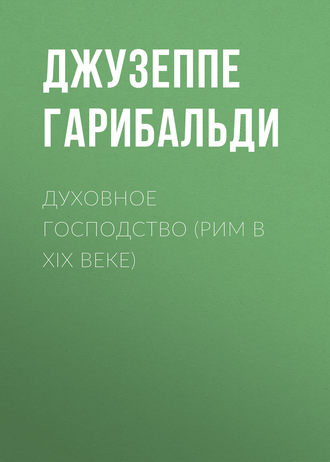 полная версия
полная версияДуховное господство (Рим в XIX веке)
А между тем, и для народов, как для отдельных людей, необходимо для существования сознание собственного достоинства, необходимее даже, чем хлеб для поддержки того животного прозябания, в какое хотят повергнуть Италию.
Некогда царица Адриатики давала законы сильным завоевателям. Рыкание её гордого льва слышалось на дальнем Востоке. Правители Европы составляли против неё союзы, и при помощи завистливых итальянских республик покупались на её лагуны, ею были отражаемы храбрыми сынами республики.
Кто может теперь узнать в венецианцах – сограждан Дондоло и Морозини? Им нужна была чужая помощь, чтобы освободиться! Освободившись, они попали в силки, расставленные им «поскребышами Сеяна»[30], для которых ничто не кажется унизительным и позорным!
Как долгий гнёт изменяет людей! Благородные личности изменяются в жалких гермафродитов! И вы не одни, венецианцы! Потомки Леонида и Цинцината не уступают вам в своем вырождении!
Рабство выжигает такое клеймо на челе человека, что он становится неузнаваем, и мало чем отличается от дикого зверя.
Но как ни низко упал итальянский народ, разорвать с своим прошедшим окончательно он не может.
Так, между прочим, у него осталось стремление к развлечениям и празднествам. Крик его: «хлеба и зрелищ!» и в наши дни тот же самый, как в давно минувшее время. И духовное господство старается удовлетворить эту его потребность торжественностию и роскошью своих процессий и обрядов, превосходящих своим блеском и роскошью все, что существовало в этом роде в древности.
Кроме этого удовольствия созерцания величия католического ритуала, заботливое правительство предоставляет народу всякия другие удовольствия и удобства, под одним условием, ни на минуту не задумываться над судьбами и возрождением Италии. Платить и разоряться сколько угодно итальянцы и имеют полное право. Всякия игры, зрелища, разврат самый разнообразный, проституция – все это готово к их услугам.
Только церемонии обручения дожа с морем давно не видали венецианцы.
А этот праздник был любимейшим для народа, когда народ этот имел самоуправление, свое правительство, и дожа во главе этого правительства.
В день, назначавшийся для празднования, il Bucintoro – роскошнейшая галера республики, расцвеченная знаменами и разукрашенная коврами и позолотою, с дожем, важнейшими членами правительства, иностранными посланниками и цветом венецианских женщин в праздничных одеждах на палубе, – двигалась при громе музыки от палаццо св. Марка к Адриатике.
Кортеж Буцинторо составляли множество других галер и бесчисленное число убранных по праздничному гондол, на которых находилась большая часть населения.
И была ты прекрасна в такие дни, царица Адриатики, когда твои Дондоло и Морозини бросали в морскую глубь кольцо, торжественно объявляя море невестой республики, и как бы гарантируя этим то, что оно будет снисходительно к морякам-венецианцам. И была ты сильна тогда, республика, насчитавшая тринадцать веков своего существования, и если бы вслед за пышными своими обручениями ты умела бы устроивать братский банкет для твоих сестер, других итальянских республик, чужеземец, воспользовавшийся вашими раздорами, чтобы погубить вас, никогда не посягнул бы на вашу свободу, никогда не достиг бы обращения вас в позорное рабство!
Заживите же раны, натертые на руках ваших кандалами; заживите рубцы, которыми покрыто все ваше изможженное тело, и не забывайте уже впредь никогда всех унижений ваших, и помните, что только соединенные, – вы будете настолько сильны, что совладаете с каждым чужеземным врагом!
Чичероне, показывавший отшельнику все редкости Венеции, и рассказывавший ему о том, как происходила обыкновенно церемония обручения дожа с морем, сказал ему, улыбаясь: «Знаете ли, нам все кажется, что мы когда-нибудь снова увидим подобную церемонию!»
XII. Похождения князя Т.
В то время, когда убийцы стерегли князя Т., а друзья наши разыскивали его с Ченчио, чтобы предупредить об ожидавшей его опасности, он, ничего не предчувствуя, находился далеко от площади св. Марка, в отдаленном конце Венеции.
Князь Т., как я уже говорил, был человек не дурной, и способный ко всякому благородному порыву, но выросши среди развращенной аристократии, он также легко подчинился и всякому дурному влиянию, увлекался на каждом шагу, был легкомыслен и любил сильные ощущения.
Был он также очень влюбчив, в чем я, впрочем, не вижу почти ничего дурного при его молодости, приняв в соображение, что в наши дни от подобной слабости не свободна даже и бо́льшая часть стариков, некоторые из которых, несмотря на это, заслуживают всякого уважения за свои достоинства.
В прежнее время, при существовании «права первой ночи», для итальянских аристократов, удовлетворение самых утонченных прихотей сластолюбия было донельзя удобно. Мало того, чуть не каждая плебеенка, удостоенная их вниманием, считала себя осчастливленною, и не была в состоянии понимать своего позора и унижения.
В наши дни дело это несколько изменилось, и хотя и теперь нередкость встречать могущественных аристократов, для которых все достижимо, так-как под маской либерализма они едва-ли еще не сильнее своих достойных предшественников, но большая часть из них и в любви, как во многом другом, стараются согласовать несколько свои действия с требованиями духа времени. Простолюдинки для них тоже представляются женщинами, в которых можно влюбляться, за которыми можно ухаживать, которым можно отвечать чувством на чувство, а не приказывать просто любить себя.
Князь Т. принадлежал в лучшим представителям аристократической молодежи, а потому и в своих любовных похождениях отличался некоторою деликатностью.
Это, однако же, не мешало ему предаваться времяпрепровождению этого рода с излишеством.
В Венеции он был в первый раз, и исполнив то, что считал своею обязанностью, явиться к отшельнику с приветствием тотчас после его приезда и даже нанять себе помещение в той же гостинице Виктории, где остановился отшельник и его друзья, он почувствовал, что он совершенно свободен и может даже несколько пожуировать.
Он слышал так много прежде о красоте венецианок, вид их – женщин, приходивших к гостинице Виктории из любопытства взглянуть на отшельника, толпилось у дверей этой гостиницы не мало – так на него сильно подействовал, что он решился посвятить первый же вечер своего пребывания в Венеции поискам за какою-нибудь счастливою встречею.
Не имея, впрочем, никакого определенного плана на этот счет, он несколько времени ходил между толпами, собравшимися на площади св. Марка. Многие венецианки нравились ему, но ни одна не заставляла забиться сердце. Вдруг заметил он молодую девушку ослепительной красоты, только что отделившуюся от группы, стоявшей подле самой гостиницы. Очевидно, она приходила взглянуть на отшельника и теперь возвращалась домой.
Не думая, не рассуждая ни о чем, ветреный князь инстинктивно пошел, вслед за нею. Но девушка шла не оглядываясь и так быстро, что за нею трудно было поспевать. Пройдя несколько улиц, она остановилась у одного из каналов, где ждала ее гондола. Князь со всех ног бросился к месту, где она останавливалась, но легкая гондола уже мчала ее по каналу.
Подозвать гондольера, нанять другую гондолу и отправиться в догонку за девушкой, было для князя делом одной минуты.
«Зачем я еду и куда я еду?» мелькнуло в голове князя: «может быть, эта женщина даже и не стоит за собою ухаживания. Но нет, это было бы слишком страшно! Девушка эта так прекрасна и способна вселить такую глубокую к себе страсть, что необходимо разузнать прежде всего, кто она, где она живет, а там… будь, что будет!»
Гондола девушки остановилась у небогатого дома, без всяких украшений. Девушка взошла на лестницу, и легкая, как серна, стала по ней взбираться. У дверей второго этажа стояла женщина со свечою, очевидно видевшая из окна её прибытие. Князь бессознательно тоже поднялся на лестницу. Женщина, встретившая девушку, по-видимому, мать незнакомки, нежно ее поцаловала, и обе они вошли в комнаты, забыв, очевидно впопыхах, затворить дверь на лестницу, и князь инстинктивно вошел вслед за ними…
Войдя в комнату и очутившись с глазу на глаз с двумя женщинами, из которых одна видом своим внушала невольное к себе уважение, а другая при вечернем освещения казалась еще ослепительнее по своей красоте, князь сразу почувствовал всю неловкость своего положения, и чтобы выйти из него по возможности с меньшими затруднениями, обдумывал уже почтительную фразу для оправдания своего внезапного появления ошибкою в доме… как вдруг сильная рука юноши, в гарибальдийской рубашке, схватила его сзади за плечи.
Это был жених девушки, догонявший ее в третьей гондоле.
– Вы, кажется, г. волокита, сказал юноша: – не туда попали, куда думали. Убирайтесь-ка по добру по здорову на улицу, пока целы, или я вас вышвырну на лестницу…
Аристократическая гордость не позволила князю выслушать эту горькую правду без возражений.
– Я никого здесь не думал оскорблять, но если вы считаете себя вправе говорить мне дерзости, то я их даром вам не спущу. Вот моя карточка. Я не прочь обменяться с вами пистолетными выстрелами, и завтра до 12-ти часов буду ждать в гостинице Виктории ваших посредников.
– Так долго я дожидаться их не заставлю, отвечал юноша, и запер дверь за уходившим князем.
Не особенно веселым после такой неудачи возвращался князь домой, как у самого входа остановлен был нашими друзьями. Им уже удалось удалить убийц, так-как Ченчио сказал им, что он получил из Рима отмену приказания. Они, проискав понапрасну всюду князя, решили, что они все-таки успеют увидать его, когда он будет возвращаться домой, чтобы рассказать ему весь замысел против его жизни.
Князь старался казаться веселым в обществе друзей и не сообщил им ничего о случившемся. Он не хотел подвергать их опасности из-за своей неосторожности, а они, конечно, если бы узнали о дуэли, то все захотели бы быть его секундантами. Исключение сделал он для одного Аттилио, которому во время общего разговора незаметно лепнул, чтобы он оставался ночевать, так-как у него до него есть дело. Когда приятели стали прощаться, то Аттилио, под предлогом необходимости сказать князю несколько слов по одному частному делу, остался у него в нумере.
На заре следующего утра легкий стук в двери нумера показал князю, что наступила минута переговоров о дуэли. Когда дверь была полуотперта, в комнату вошел незнакомый ему молодой человек и вежливо передал ему карточку с письмом Морозини, на которой было написано: «Я принимаю ваш вызов и жду вас близь гостиницы в гондоле. Со мною оружие для двоих, но, пожалуй, захватите с собою и ваше. Условия дуэли будут зависеть от наших секундантов».
Князь представил незнакомца Атиллио, и в две минуты все было решено. Решили стреляться на пистолетах. Сходиться с двадцати шагов расстояния и стрелять по произволу. Место дуэли назначалось за городской стеной, и противник просил только одного, чтобы дуэль не откладывать, а стреляться, если только это князю возможно, тотчас же.
Это условие было весьма рациональным: оно избавляло противников от неприятного ожидания. В самом деле, как бы ни был решителен и тверд человек, но если ему предстоит убить другого или самому быть убитым, мысль о чем одинаково тяжела для человека, то самое лучшее – действовать уже без отлагательства, сокращая время ненужных предварительных страданий.
Я не сторонник дуэлей. По моему – неуменье людей решать дела чести без кровопролития – дело позорное, но как итальянец, и поэтому раб и илот, – я полагаю, что не имею даже права проповедывать общий мир между людьми. Прощение обид – дело почтенное, но как можем мы их прощать, когда нас обижают все и каждый, на каждом шагу, когда мы обидно лишены наших прав, поруганы в нашей чести и сознании – поддонками нашего же народа? Нам не до прощения обид, когда мы самое право жизни должны покупать ценою унижения. Разумеется, Италия отвергнет дуэли, когда она составит свободный народ, и мы вступим в прямое пользование нашими правами, которые признают за нами и другие страны, но в наши дни угнетения, произвола и привилегий – я стою за дуэли – при решении частных споров.
Когда гондолы дошли до условленного места, то противники и их секунданты вышли на песчаное прибрежье. Шаги были отмерены, пистолеты осмотрены секундантами и вручены князю и Морозини. Оставалось только Атиллио подать знак троекратным ударом в ладоши, и противники могли сходиться и стрелять.
Уже два раза ударил в ладоши Атиллио, как вдруг с места, где стояли гондолы, послышался крик: остановитесь! и вслед за ним между соперниками появился седой как лунь гондольер, и обратился к ним со словами увещания и скорби, не проливать без нужды дорогую итальянскую кровь, которая может еще понадобиться отечеству. Старик говорил горячо и настойчиво, но слова его оказались бесполезны. Его попросили удалиться, и условные сигналы снова были повторены. При третьем сигнале последовали выстрелы: пуля князя задела плечо Морозини с правой стороны; показалась кровь, но рана была легкая и поверхностная. Противник его, очевидно обладавший большею долею хладнокровия, выстрелил после, на весьма близком расстоянии, и пуля поразила князя в самое сердце, так что он тотчас же, как сноп, свалился на песок.
Когда слух о его смерти достиг до Рима, это конечно доставило немало удовольствия курии.
Смерть и погребение, всегда напоминают известную поэму нашего великого Уго Фосколо, представляющую торжественный гимн в честь умерших. Прославлять доблести мертвых – дело полезное для возбуждения в живых желания им подражать. Но я в то же время враг той роскоши и помпы, какими окружают патеры церемониал погребения людей богатых или могущественных. Эта роскошь похорон противна самой идеи смерти – равенства бедного и богатого, одинаково обращающихся в прах. Тщеславие и пышность похорон возмутительны и даже смешны (хотя смерть не должна бы была ни в каком случае давать повод к смеху), особливо в тех случаях, когда смерть погребаемого доставляет только удовольствие для жадных наследников и с общим равнодушием принимается посторонними.
Но верхом безобразия – я считаю наемных плакальщиц, которых я видел сам в Молдавии на похоронах одного боярина, и которые вероятно водятся и в других странах. Слезы за деньги – что может быть отвратительнее этого, слезы, когда в душе нет никакой скорби, а между тем плакальщицы, которых я видел, обливались слезами, захлебывались от рыданий. Они напоминали мне тех парламентских одобрителей, которые за деньги, полученные ими, считают своим долгом выражать свой восторг и кричать браво, при каждой речи министров или других правительственных ораторов, какую бы дребедень ни приводили они в этих речах.
На похоронах князя Т. тоже не обошлось без большой и равнодушной толпы. Звание покойного послужило, как это всегда бывает, приманкою для зевак. Среди равнодушных проводников князя, были действительно расстроены только Муцио, Атиллио и Гаспаро (Орацио и Ирена ничего не знали; друзья сумели скрыть от них известие о его смерти). Гаспаро просто рыдал.
Плакал он потому, что успел в последнее время привязаться всею душою к покойному, и ценил в нем человеческое к себе отношение.
Как легко аристократии привязывать к себе народ, при малейшем её желании этого. Как легко богатым людям, помогая несчастным и обойденным, даже небольшими средствами, приобретать себе приверженцев и друзей. Я часто об этом думаю и удивляюсь, почему есть еще столько знатных и богатых людей, которые просто из небрежности не заботятся о народной любви. Я знаю, что между богатыми в наше время весьма много людей, а особенно женщин, отличающихся высокою степенью сострадательности и милосердия, но к несчастию, число их все-таки ничтожно сравнительно с количеством нуждающихся. А сколько еще между богачами и таких, которые не только равнодушны к страданиям бедняков, но еще с каким-то злорадством стараются их обижать, угнетать, преследовать.
Конечно, улучшать положение бедных прежде всего дело правительства, но ему, как всем известно, не до того…
Богатые классы могли бы пособить этому злу, если бы жертвовали на это дело хотя какую ни будь часть своих излишков. И тогда бы не существовало того возмутительного контраста, какой на каждом шагу представляет современное общество, когда рядом с человеком, нуждающимся в самом необходимом, едва не умирающим с голода, видишь человека, незнающего что делать с своими избытками и впадающего в хандру от пресыщения.
Погребальный поезд приблизился к кладбищу. Гроб опустили в могилу и не нашлось ни одного голоса, который сказал бы хоть слово в память покойного. Бедный князь, при всем своем желании делать добро, не успел еще ничего сделать, сраженный преждевременной смертью… Что же можно было сказать о его доброте и доблестях, проявить которые он не имел даже и времени?
Ирене и Орацио – о смерти князя объявил отшельник, когда Атиллио и Муцио уже вернулись с похорон, объяснив им, что это было от них скрыто для того, чтобы избавить Ирену от лишнего страдания. Новость эта поразила Ирену глубокою скорбью. Со смертью брата она делалась наследницею всех его богатств, но ни она, ни Орацио об этом даже и не вспомнили. А между тем в Риме – патеры, уведомленные телеграммою о случившемся, озаботились уже конфискациею домов князя, находившихся на территории папской области. Поспешность их, впрочем, весьма понятна, если взять в соображение, что люди этого рода обязаны самым своим званием особенно дорожить теми сокровищами, которые не мира сего.
XIII. Прощание с Венецией
После похорон князя Т., отшельник недолго пробыл в Венеции.
«Прощай Венеция», думал он, расставаясь с ней: «и твой народ, подобно другим итальянским городам, от продолжительного подчинения чужеземцам, утратил тот отпечаток величия, каким он отличался при Венье и Дондоло. Современные венецианцы слабы и духом и телом и – также как и остальные их итальянские братья, могут только тщеславиться своим славным прошедшим!»
Нельзя не удивляться, как портит и вырождает людей продолжительное рабство и господство духовных! Взгляните на гордого янки, как он смел, бодр, силен и даже красив. Для него в мире нет ничего невозможного, и при самом отчаянном риске он твердо произносит свое непреклонное: вперед!
Таков же и англичанин, таков же и швейцарец.
Сравните с этими смелыми людьми потомков Леонида или Брута, и вы увидите, как продолжительное рабство, и вечный страх изувечили их, исказили самые черты их, изменнии осанку и походку. Очевидно, что папа Стамбула и папа Рима стоют один другого.
Отшельнику случалось видеть в Константинополе греков, которые были в наказание пригвождены ухом в их лавкам. Прохожие с презрением смеялись над ними, отворачивались от них и называли их плутами и негодяями, и они были действительно плуты и негодяи, так-как их наказывали за плутни и мошенничества в торговле.
Римские нищие, толпящиеся у колоннад своих храмов, конечно не возбуждают такого отвращения, как константинопольские греки. Они все-таки выше их, хотя также нравственно изуродованы и испорчены до мозга костей.
И Венеция, как и другие её итальянские сестры, выродилась и развратилась!..
Эти печальные мысли отшельника подтвердились фактами.
Хотя его появление в Венеции и страстная проповедь правды и произвела всеобщий энтузиазм; хотя, куда бы он ни шел, его всюду сопровождали толпы народа с громкими криками, но этим все дело и ограничивалось. Ни одним советом его не воспользовались.
В депутаты были избраны не те лица, на которых он указывал; патерам по-прежнему льстили и кланялись…
А между тем, путь его был рядом оваций.
В Падуе он отдохнул и помолодел душой, встретив в среде студентов этого славного университета, горячия чувства патриотизма и гуманности.
В Виценце, Тревизе, Удине, Беллуно, Фельтре, Конельяно всегда народ встречал его с горячими знаками сочувствия, и благодарное воспоминание этого никогда не заглохнет в его душе.
XIV Кайроли и его семьдесят товарищей. Кукки и друзья его
Народы довольные и хорошо управляемые никогда не возмущаются. Бунты, возмущения, революции – последнее прибежище угнетенных и рабов. Вызываются они тираннией.
Бывают, конечно, исключения, когда происхождение возмущений нельзя объяснять прямо тираннией, но косвенным образом причины, вызывающие их, все-таки результат нравственной или материальной тираннии.
В Швейцарии, в Англии, в Соединенных Штатах случались, и может быть еще будут повторяться возмущения, хотя эти страны и хорошо, относительно, управляются.
Но Зондербунд в Швейцарии, и движение фениев в Англии – результат нравственной тираннии патеров на невежественные классы населения.
Недавняя страшная революция в. Соединенных Штатах была следствием той материальной тираннии, которою отличались южные плантаторы в отношении к своим черным рабам и которою они хотели заразить и другие штаты Союза.
Таким образом одна тиранния, так или иначе, всегда бывает причиною возмущений.
Что Рим страдает и от нравственной и от материальной тираннии – это едва-ли кто станет отрицать. Я же полагаю, что тиранния духовного господства, готового каждую минуту продавать римлян чужеземцам, – самая тяжелая, позорная, невыносимая тиранния, какая когда-либо существовала.
* * *Была бурная, темная, холодная и дождливая октябрская ночь. Волнение на Тибре было необычайное; пристать в берегу, покрытому скользкою и вязкою грязью и водяною пеною, было почти невозможно. Семьдесят человек людей, одежда которых не могла предохранить их от ночного холода, носились по Тибру в нескольких барках, тщетно отыскивая место, где бы можно было безопасно пристать. Все они были вооружены револьверами и кинжалами и у них было даже несколько, хотя и плохих, ружей.
В эту ночь было назначено восстание в Риме.
В город успело пробраться множество инсургентов из всех итальянских провинций. Аттилио, Муцио, Орацио и т. д. уже были на своих местах и распоряжались приготовлением к делу своих товарищей.
Напрасно папская полиция употребляла всевозможные мери для открытия заговорщиков, и арестовывала направо и налево, без счета, – людей, решившихся пожертвовать своею жизнью, сошлось в Рим столько, что со всеми ей невозможно было справиться.
Семьдесят человек, плывших по Тибру, торопились на подмогу своим товарищам. Баркам их удалось, наконец, пристать у горы св. Джулиано в полночь с 22-го на 23-е октября 1867 года.
– В четыре часа вечера мы должны идти на Рим, сказал храбрый Энрико Кайроли, обращаясь к своим друзьям. – До тех пор мы можем отдохнуть в этом казино, ожидая известий от наших из Рима, а в назначенный час – в поход.
– Я считаю, однако ж, долгом своим предупредить вас, продолжал он после некоторого молчания: – что дело, предстоящее нам, будет трудное. Поэтому, если кто-нибудь из вас чувствует себя больным, или усталым, то пусть лучше он останется. Сердиться на него никто из нас не станет и, дружески прощаясь, мы скажем ему: до свидания в Риме.
– Никто из нас не отстанет! Мы все идем, остановить нас может разве только одна смерть! ответили в один голос прибывшие.
– Однако, странно, что я не вижу ни проводника, который по условию должен вести нас к Риму, ни посланного, который должен бы был принести нам известия о ходе восстания в городе, обратился Джиованни Кайроли к своему брату, возвратясь с осмотра местности: – а между тем мы просто в волчьей яме, окружены аванпостами папских войск и на нас могут каждую минуту напасть.
– Будем ждать, что бы ни случилось, отвечал Энрико. – Мы пришли драться, и никакая опасность не должна страшить нас при исполнении того, что было условлено.
В полдень только явился из Рима посланный, которого ждал Кайроли. Он объявил, что так-как вечернее движение не дало никаких определенных результатов, то Кайроли должно будет дожидаться новых распоряжений.
Посланный тотчас же был отправлен назад сказать, что Кайроли с товарищами готов и ждет только новых известий и распоряжений.
Никаких новых распоряжений, однако, Кайроли не получал до пяти часов, а в это время его присутствие было замечено двумя папскими полками, и волей-неволей пришлось готовиться в схватке.
Первым подвергся нападению Джиованни, который с двадцатью-четырьмя товарищами составлял авангард, поместившись в сторожке одной виллы. Он, несмотря на многочисленность папского войска, смело выдержал его натиск. Опасаясь, однако, дурного исхода дела, Энрико еще с двадцатью-пятью юношами поспешил ему в подкрепление. Братьям, при соединении их, удалось разбить и прогнать войско, обратившееся в бегство. Но в это самое время новые неприятельские войска явились на помощь бежавшим и, заняв позицию позади высот горы св. Джулиано, открыли беспощадный огонь по нашим героям.
Тогда Кайроли с своими бросился в штыки на войско и снова обратил в бегство папистов, оставивших на поле сражения множество убитых и раненых. Но и защитники свободы понесли не мало урона. Оба брата Кайроли были убиты… Только наступившая ночь прекратила это геройское дело.




