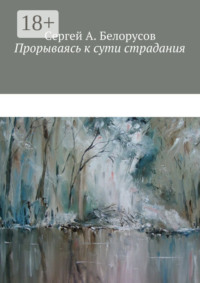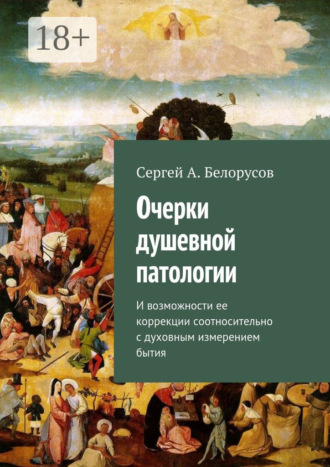
Полная версия
Очерки душевной патологии. И возможности ее коррекции соотносительно с духовным измерением бытия
бб) Медление. Всмысле противоположности суете. в смысле поверки каждого шага на отсутствие лукавства, само – и взаимо-обмана. В смысле постоянного возвращения к исходным стадиям и убежденности в правильности пути. В смысле признания того, что результат не 100% зависит от соблюдения всех правил в силу того, что мы отважились в транс-личностном процессе деятельно уповать на то, что принципиально вне нас. Антиномические сочетания отваги и терпения, уверенности и «трезвенного неверия себе» отсекает соблазны поспешных «прелестных само-обольщений» и инфантильно-нахальных претензий на «особость чудотворений».
вв) Действия. Формат транс-психотерапевтических встреч представляет собой совместный (в каком-то смысле, соборный) опыт оценки действиям странника. Если единицей взаимодействия является встреча, то квантом действия является шаг – большой ли, малый, но предпринятый тогда, когда он был определен и осмыслен совместно со спутником. Прислушиваться к себе, говорить с подсознанием, изображать роли, удовлетворяться настоящим пониманием – все это возможно в пре-трансцендентных терапиях. Побуждение к действиям – отспутника, решительность выполнения их – от странника, «диакризис» – различение духов в произошедшем – есть практика транс-психотерапии.
гг) Одухотворенность. В смысле динамики, в смысле известной настороженности к окончательным суждениям, в смысле приоритета принципа диалогичности бытия над правилами, установками, законами и мертвящей косностью. В сочетании с обсужденными выше медлением и опорой на опыт, это не «вседозволенность в опьяненности духом», но живость и жизненность в добродетели неосудительности, применительно к многообразию мира. И примером, порукой, образом восприятия и действия наш Евангельский Господь – Он пьет вино, радуясь свадьбе, Он творит веселое чудо, посылая Петра вынуть монетку изо рта рыбы, Он приветливо находит общий язык с женщиной-пятимужницей. Любым действием Он придает новый смысл доселе обыденно плоскостному миру. Его поступки неожиданны и верны. Его чудеса – поучительны и легки, хотя и остаются загадочными в своих смыслах, а именно будоражащими и приглашающими к размышлению. И часто смысл ускользает… а когда мы, в силу своей неуверенности, слабости, невротичной тревоги, пытаемся сделать из Живой вести окончательный свод законов, клишировать эти смыслы на вечные времена, что-то теряется и принцип веры как диалога исчезает. Остается морализаторство, начетничество, фарисейство. Жизненность исторического Православия в том, что Оно может «встряхнуться», сбросить предрассудки и признать ошибки своих ревностных «по букве» адептов. И нам, православным 21-го века, так больно и ясно, и от этой ясности еще больнее, что не надо было гнать Иоанна Златоуста, заточать Максима Грека, отдавать Правительствующему Синоду духовную власть над Россией. Живущий Православием понимает, что не всегда большинство епископов его Церкви правы, (вспомним Флорентийская унию), но не делает из этого вывод, что до всего надо дойти собственным умом. Он согласен, что именования «святейший» применительно к Патриарху его Церкви громоздок, но ведь мы не всегда выкидываем вышедшее из моды трюмо из квартиры. А значит, если в нашей истории есть падения, то у других народов и традиций есть взлеты. И мы их примем с благодарностью – и народы и их прозрения. Известно, что переводя Евангелие на языки то готтентотов, то эскимосов, трансляторы пытаются заменить предметы ближневосточной реальности на близкие тем понятия. и может необязательно знать последование литургии Василия Великого, а просто в благоговении разломить лепешку с пальмовым вином, чтобы вот просто поблагодарить Того, Кто Вверху за то, что Он не оставляет нас. Это онтологическое Православие, и суть Его можно бы выразить так: когда ты делаешь нечто во имя того, что (Кто) выше тебя исходя из вложенной в тебя потребности любви – ты недалеко, ты право славишь Бога. И ничего теперь не надо доказывать, нечего защищать, все уже есть, все определено. Именуя себя православными, мы обретаем способность право славить все доброе в мире: и когда индуист практикует «сопротивление ненасилия», когда израильтяне пишут в армейском уставе, что ты, солдат, выдай все секреты, но сохрани свою жизнь, которая важнее нам, когда Далай Лама находит проникновенные слова о почтительности ко всему сущему, когда араб раскладывает коврик в уголке торговой улицы, чтоб осуществить заповеданное ему пятикратное обращение к Аллаху; и вдохновенную пластичность негритянскиго духовного танца, и доброе намерение покаяться за крестоносцев Папы Иоанна-Павла II, и «отдание жизни за други своя» комсомольца Матросова, и эпатаж мещанской самодостаточности «черным квадратом» Малевича и все-все-все в мире, где действия продиктованы добрыми устремлениями, где побуждение вверх, сочетанное с жертвенностью, уважительностью, мужеством, сострадательностю, терпимостью и дерзновением во имя Высшего определяют поведение человека – там происходит одухотворение, в большей или меньшей степени, но имеющее вектор к правильному прославлению Творца – Православию.
Агностик: «А чем он [транс-психотерапевт] отличается от обычного тера? Судя по вашим словам, ничем особенным».
Д. На этот вопрос есть хороший ответ. Нашему поколению детстве нравились диафильмы – проецируемые на стену застывшие картинки с текстом, а нынешним детишкам – игры в трехмерном пространстве, реалистичные и с возможностью взаимодействия и повторения. Так вот, транс-психотерапевт работает в большем числе измерений, чем обычный специалист психо-помощи. Он мыслит объемнее, а в том, что он не галлюцинирует объемами – порука его принадлежности Церкви, нечуждость ее таинственной жизни, здоровый интерес к хорошей мистике и привычка поверять ее трезвенностью – великой Православной добродетелью. Для него страдание не только биохимично, но провиденциально, для него смысл симптома сводим не только к социальной, сексуальной или биохимической подоплеке, но к посланию вразумления Свыше, которое так здорово истолковывать вместе с клиентом. Это очень увлекательная штука – транс-психотерапия – каким может быть взаимодействие на самых значимых, порой головокружительных уровнях смыслообразования в условиях братской откровенности. Для него – спутника – жизнь не является конечной, а видимый успех – критерием эффективности. Для него нравственность является фактором не пренебрежения («по ту сторону добра и зла»), а бережного рассмотрения и поиска коррелятов между экзистенциальной неправотой клиента и его симптоматикой. Для него история старших поколений клиента приобретает важность в силу нашей сопричастности не только семье, но роду, нации и человечеству. Для него архетипично насыщенные истории прошлого (так из уважения к Вашей агностической само-идентификации назовем Писание и Предание) являются не археологическими памятниками, а руководствами, способными исцелять, хотя бы потому, что мы не являемся первым поколением из живущих на Земле. Для него необыкновенно важна психология не только низин подсознания, откуда продуцируются расстройства, но вершин духа человеческого, проявленные в мыслях чувствах и поведении прославленных подвижников, поскольку именно их опыт открывает перспективы доступные потенциально каждому клиенту.
Он, транс-психотерапевт, чувствует за собой великую силу, исповедуя собственное абсолютное бессилие, действуя по принципу – от меня усердие, от Бога результат. Он говорит на разных языках, доступных восприятию его клиентов, он не закончит встречи, не будучи убежден, что он понял, принял, а значит – полюбил приходящего. Вера психотерапевта не должна быть психотерапевтическим ресурсом, это инструмент пастырского душепопечения. Религиозная идентификация психолога в хорошей психотерапии остается как бы «за кадром, на периферии», когда терапевтическая ситуация требует ее – веры – актуализации, транс-психотерапевт перестает быть в строгом смысле и первично профессионалом – он становится «братом» (бывают случаи, и «отцом», а клиент в данном случае трансцедирует рамки психотерапевтического сеттинга, и начинается иной формат целительных взаимоотношений, другие правила и возможности. И, может быть, отсюда и начинается православная психотерапия в понимании Митр. Иерофея Влахоса [36].
ИСТОЧНИКИ:
Абраменкова В. В., Слободчиков В. И. Христианская антропология и современная психология. Ежегодная Богословская конференция Свято-Тихоновского Богословского института 2001 года. [http://vos.1september.ru/articlef.php?ID=200102504].
Авдеев Д. А. Православная психиатрия. Стр. 23. [http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/avdeev/psychiatry/contents.html].
Баязитова М. Опыт работы православного психолога в церковном приходе. МПЖ №3, 2003.
БСЭ. Копировано с [http://www.oval.ru/enc/57077.html].
Доклад на секции «Православие и медицина» в рамках XI Международных Рождественских образовательных чтений. Опубликовано не сайте [http://portal-credo.ru], см.: 31—01—2003.
Журнал «Путь».
[http://www.krotov.info/libr_min/b/bulgakovs/put_02_47.html].
Ильин В. А. Православие и психотерапия. [http://www.hpsy.ru/public/x904.htm].
Копировано с [http://kurenie.alesha.ru/kurenie/idx/13/084/article/.html].
Копировано с [http://www.bestreferat.ru/referat-3560.html; http://www.portal-slovo.ru/rus/pedagogics/209/1164/$print_text/&part=4].
Копировано с [http://www.metropolit-anthony.orc.ru/ethic/ethic3.htm].
Копировано с [http://www.reshma.nov.ru/psycology/pastirska/ppp.htm].
Кремлев А. Е. Анализ феномена христианской психологии в контексте современной церковной истории и психологической науки и практики. Попытка критического обзора. Дипломная работа, научный руководитель Василюк Ф. Е. [http://www.damian.ru/Diplom_Kremlev/Xrist_Psihology.zip].
Кьеркегор C. «Страх и трепет». [http://www.aumworld.ru/articles/strax.html].
Лапин В. Православная психотерапия. Опубликовано на сайте «Свет Православия», [http://www.reshma.com.ru].
Леонтьев Д. [http://institut.smysl.ru/article/4.php].
Мамардашвили М. Трансценденция и бытие. [http://www.jnana.ru/classics/mamard03.html].
Митр. Антоний Сурожский. Брак, монашество, церковь / Человек перед Богом. М., Паломник, 2000. [http://www.metropolit-anthony.orc.ru/forum.dhtml?mid=884952].
Митр. Иерофей Влахос, копировано с [http://home.it.net.au/~jgrapsas/pages/orthospir.htm].
Не от мира сего. Жизнь и труды о. Серафима Роуза. Cтр. 817. [http://doktor-altunin.narod.ru/download/Spisok_pravoslavnoj_literatury.doc].
о. А. Ельчанинов. Записи. [http://orel.rsl.ru/nettext/history/elchaninov/el00.htm].
Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Копировано с [http://www.wco.ru/biblio/books/strannik/Main.htm].
Памяти Тамары Александровны Флоренской. Православное Обозрение «Радонеж». [http://www.radonezh.orthodoxy.ru/oboz/n11-12/fl.htm].
Подчеркнуты цитаты из книги о. А. Ельчанинова «Записи».
Проценко П. Г. в небесный Иерусалим. История одного побега. Н. Новгород, 1999, стр. 470. [http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/auth_pages.xtmpl?Key=18901&page=298].
Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 272.
Религия и наука в современном сознании // Путь №4, 1926.
Свящ. Андрей Новожилов. Проблема научно-богословского определения Церкви и вопрос о границах Церкви. Диссертация. [http://www.spbda.ru/refer/ds_2004_nov.htm].
См. текст: Бочаров А. и Чернышев А. [http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=45263&order=asc&fullview=&pg].
См.: Слободчиков В. И. Христианская психология – её возможность и действительность. [http://filter.nordrus.ru/Print.php?NewsID=9] и др.
Хомяков А. Церковь одна. Опубликовано на сайте [http://www.icona.ru].
Цит. в сокращении по [http://www.reshma.nov.ru/psycology/hristianska/zaichenko_correktsia.htm].
III Международная конференция «Психология и Христианство: пути интеграции». [http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/975/975147.htm].
XI Международные Рождественские образовательные чтения, секция «Православная антропология и психология». 29—30 января 2003 г., Москва. См. также: Интервью со священником Андреем Лоргусом: «Большинство задач социального служения без психологии не решить», опубликованное на сайте [http://www.pravoslavie.ru].
[http://anthropology.rchgi.spb.ru/berdyaev/berd_s3.htm].
[http://daavdeev.narod.ru/wwa_Principles.htm].
[http://home.it.net.au/~jgrapsas/pages/orthospir.htm].
[http://txt.newsru.com/religy/07feb2001/psyche.html].
[http://www.kuraev.ru/forum/view.php?subj=47138].
[http://www.reshma.nov.ru/psycology/hristianska/iliin_prav_psih.htm].
[http://www.reshma.nov.ru/psycology/hristianska/ps_xx_1.htm].
Понятие духовной зрелости личности в перспективе святоотеческого подхода
Святоотеческое богословие в современности
Назначение богословия Святых Отцов состоит в изложении истин Богооткровения так, как они могут быть поняты и приняты, применительно к отдельной эпохе в динамике мировой истории.
Сутью святоотеческого богословия является осмысление меняющейся реальности земной повседневной жизни к изначальному замыслу Творца о мире.
Путь святоотеческого богословия проходит между двух возможных полюсов религиозного восприятия динамического мироздания. Одной искажающей крайностью является взгляд на развитие мира как прихотливую забаву Творца, выражаемый метафорой «весь мир – театр, и люди в нем актеры», другой соблазн – жесткая определенность неподвижных, пусть справедливых правил, когда Бог воспринимается, скорее принципом, чем Личностью. Отцами открыто восприятие происходящего процесса развития мира как «синергии со-действования» человечества с Промыслом о нем, а участь личности – как диалог Творца с творением.
Основой святоотеческого богословия является опыт. Веское слово «дознано», означает, что сообщаемое – открылось им, воспринято всей целостностью их жизни, проверено, испытано и может быть рекомендовано нам. В слове «дознано» – труд подвига, слезы покаяния, и окончательная степень подтверждения опытом Богообщения.
Мы попытаемся сформулировать основные факторы, которыми определяется значимость традиционного святоотеческого богословия:
Исхождение из Священного Писания. Богословие Отцов укоренено и произрастает и плодоносит из Божественного Откровения.
Одухотворенность и молитвенность. Основой этого объединения является идея связи создания с Создателем. Речь идет о высшей степени синергичности, чуткости прислушивания к Промыслу, творчеству, изливающемуся из преисполненности Благодатью. Классическим образцом здесь является преамбула определений Вселенских Соборов: «Изволилось Духу Святому и нам…»
Церковность. Этот признак относим не к иерархичности – позиции в Церкви, а к Евхаристичности. Подлинное богословие возможно для детей Церкви, приступающих к Причастию – Таинству верных.
Преемственность. Она выражается в почтительном отношении к просиявшим святостью учителям-предшественникам, продолжению их построений через расширение, уточнение или бережное исправление.
Истинность. При этом мы не декларируем непогрешимость суждений, а признаем правильность, прямо выраженную по отношению к моменту времени ортодоксию и ортопраксию.
Направленность. Истинное богословие не происходит из прихоти, из «строго-научного интереса», из самолюбивого стремления заявить «что-то». Оно всегда ответ, имеющий своего адресата.
Учительность. Доброе, вдохновляющее и ободряющее назидание, предназначенное для предостережения, возрастания, формирования и трансформирования (преображения) учеников. Настоящий учитель всегда будет исходить из пережитого опыта, а не механически передавать теоретические системы, к которым непричастен сам.
Сочетание благоговения и дерзновения. Строгость внутренней дисциплины, глубина смирения с осознаванием границ себя, позволяющая кротко остановиться перед положенным пределом, такт и чуждость заносчивой фамильярности. При этом – смелость, настойчивость, мужественность и последовательность, отсутствие боязливости при сомнениях, упование на Благодать, неприятие закоснения, устремленность вперед, «в горняя…". Трепет перед подлинной Святыней и прорыв хитросплетений «от лукавого».
Красота. Свято-отеческий подход неизменно выражен в формах, соответствующих высотам изящества и гармонии. Соответствие стиля содержанию служит цели адекватного принятия учения – от емкого, исчерпывающего афоризма до возвышенно-всеохватывающей поэмы.
Открытость для продолжения, незавершенность по принципу «отчасти», идущего от ап. Павла (1 Кор.13:9). Приглашение к участию, которое наиболее четко сформулировано в «Амфилохиях» св. Фотия, заимствовавшего мысль о «загадке богословия» от св. Григория Нисского, так, что «богословствование не есть привиллегия избранников, а потенциальность, заложенная в каждом крещенном человеке и мы призваны в самоуглублению в эту загадку» (цит по 1, стр.252)
Как то печально и несообразно то, что святоотеческие источники изучаются лишь профессиональными богословами, когда они, в лучшем случае, драгоценная и благочестиво хранимая реликвия для тех, кого Апостол именует «царственным священством» – для нас. Конечно, есть причины тому, что сокровенная мудрость их не звучит в резонансе с нынешним устроением нашей души – и книги те изданы в затрудненном для понимания виде, и мы так безынициативны, суетливы и рассеянны. Но когда-то надо начать приближение к тому, что по назначению своему должно быть открыто – для чтения, для воплощения, для продолжения?
Понятие о личностной зрелости и психология как наука
Размышления о значимости святоотеческого богословия подхода предшествуют содержанию настоящей статьи, потому что ее задачей является попытка понять тот период человеческого бытия, о котором так немного может сказать современная психология. Нашей целью не является синтез психологических «инсайтов» и святоотеческих «прозрений», хотя совпадения, которые обнаружатся, не будут случайны. Мы надеемся на это, и не одиноки в своем убеждении. Ведь выдающийся мыслитель Тейяр де Шарден считал, что «все, что поднимается – соединяется», а светлой памяти о. Глеб Каледа любил повторять мнение Ф. Бэкона о том, что лишь «малое знание уводит от Бога, глубокое – приводит к Нему».
Далекие от скоропалительной концептуализации, мы в этой статье сделаем несколько шагов, в свете мысли Святых Отцов, к извечной тайне личности, ее развитию и призванию в обретении зрелости. Вслед ними, мы откажемся от соблазна столь популярного ныне (поп-психология и поп-религиозность) синкретического объединения разнородных феноменов, а будем стремиться к поддержке, укреплению, и вдохновению тех, чье «сердце в смятении, пока не успокоится в Боге» (бл. Августин).
Психология, как наука о душевной деятельности человека, является ровесницей нынешнего этапа мировой истории, характеризующегося форсированным технологическим прогрессом и тенденцией к функциональному антропоцентризму. Особенностью современной цивилизации является то, что человек, используя доныне немыслимые материальные возможности, расплачивается за это, становясь частью системы и утрачивает, в той или иной степени, собственную уникальность. То, что является для человека даром Свыше, а именно индивидуальная неповторимость, обуславливающая безусловную ценность каждой личности для ее Творца, развивается в период достижения человеком телесной и душевной зрелости.
В этой статье мы задумаемся о том, как протекает человеческая жизнь. Как мы убедимся, современная научная психология, разрабатывающая вопросы развития личности, останавливается на стадии достижения личностной зрелости и дальнейшее осмысление оказывается перспективным в рамках святоотеческого богословского подхода. Эта преемственность антропологического познания осознается психологами нашего времени и порой их выводы созвучны тем, что мы найдем в забытых нами творениях Святых Отцов. Вот просто один пример. Современная гештальт-психология построена на тезисе – «Целое больше суммы своих частей». И вновь св. Григория Нисского упоминает прот. И. Мейендорф в своих «Лекциях по святоотеческому богословию: «С его трактата «О сотворении человека» можно говорить о теоцентрической антропологии, сутью которой является то, что совокупность внешних атрибутов в сумме оказывается не адекватной личности» (11).
Но ближе присматриваясь к современной психологии, можно обратить внимание на то, что большая часть теоретических исследований относится к описанию ранних стадий становления личности. Так для З. Фрейда, определяющими все дальнейшее существование, оказываются первые 5 лет жизни. Согласно классику «психологии развития», Ж. Пиаже, когнитивное развитие заканчивается в подростковый период. Из восьми стадий жизненного цикла, выделяемых Э. Эриксоном, только три приходятся на взрослый возраст, остальные описывают динамику личности до 20-летнего возраста. Еще как бы «глубже» идут представители новейших направлений в своих психотерапевтических методиках, пытаясь воспроизвести «первичный крик» рождающегося ребенка или даже внутриутробное развитие плода (трансперсональная психология).
Попытаемся сопоставить эти подходы со святоотеческим учением. У св. Григория Нисского, первого из Отцов детально рассмотревшего то, что мы сейчас называем антропологией, читаем: «Создатель предназначил нам оставаться не в виде зародышей, и целью нашей природы является не младенческое состояние, ни следующие за ним возрасты, которые нас последовательно облекают, но это лишь части пути, а цель и предел возстановление в древнее состояние. Это время очищения, освобождения, изменения, переплавления». /цит по 2, стр. 176/
Религиозно-ориентированные психологи замечают это акцентирование фундаментальных исследований на периоде детства, то есть того отрезка личностного бытия, когда в психике человека доминируют общие с животными черты. В одной из монографий, озаглавленной «Психология с христианской точки зрения», автор рассматривает человеческую личность, как обладающую чертами, роднящими ее животному, не знающему греха миру, так и причастную образу Божию. Цель человеческой жизни он видит в движении от первому ко второму аспекту личностного бытия (3). Это вполне созвучно святоотеческой мысли: «Бог сотворил человека животным, получившим повеление стать Богом вот строгое слово Василия Великого, на которое ссылается Григорий Нисский». /цит. по 4/.
Познакомимся теперь с характеристиками, которыми определяют личностную зрелость наиболее авторитетные современные психологи. Г. Аллпорт описывает как признаки зрелой личности «хорошее чувство себя» (само-осознаванием), теплое отношением к другим, чувство эмоциональной безопасности, само-принятие, реалистическое восприятие и наличие интегрирующей жизненной философии. По Э. Фромму зрелость характеризуется чувством принадлежности, любовью, само-ценностью, творчеством и независимостью. само-идентичностью и смыслом. В. Франкл определяет зрелость личности через обретение смысла существования, а динамику личностного роста как принятие свободы и ответственности.
Для того, чтобы продвинуться вперед в своем осознании «богословия зрелости», следует здесь остановиться и поразмышлять о том, какую пользу может принести психология, при разумном ее принятии.
В среде отечественных специалистов, именующих себя «православными психологами и психотерапевтами», прослеживается скрытый или явный негативизм по отношению к достижениям психологии, особенно западной. В сборнике статей, озаглавленном «Из дневника православного психиатра», изданном в 1998 году, один из авторов патетически восклицает: «Если Царствие Божие для Фрейда безумие, то что душеполезного может дать нам, православным, этот безбожный человек? Ответ ясен. Ничего.» (стр.27). Тем самым коллега закрывает любую возможность диалога со светскими мыслителями. Нам представляется подобный подход одномерным. Широко известен случай из жизни (жития) преп. Силуана Афонского, который учил незадачливого миссионера не отвергать того доброго, что содержится в верованиях язычников, которым он проповедывал. И апостол Павел, пробиваясь к сердцам афинян, нашел мостик «особенной набожности» (ДА, 17:22), и тем самым смог «спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор.9:22).
Венский мыслитель З. Фрейд открыл человечеству то, что оно не хотело знать о себе. В его времени и культурной среде это была сексуальность, но ведь теперь мы понимаем, что не только на это человек склонен закрывать свой внутренний взор. Блестяще описанный Фрейдом феномен репрессии, когда личность подавляет или отрицает в себе то, с чем не согласна его совесть, обогащает наше восприятие себя и других. Фрейд преодолевает кажущуюся очевидность, заставляет задуматься о скрытых причинах наших поступков. Его тщательно разработанная концепция «психологических защит» показывает всю изворотливость человеческого сознания, направленную на само-оправдание. И применительно к духовной жизни можно предположить, что иногда стремление к безусловному послушанию диктуется только страхом принятия самостоятельных решений, что «благостное прощение» есть только «контейнирование» остающейся обиды, что замыкание себя в педантичном ритуализме на самом деле оказывается боязнью других, «чужих» людей.