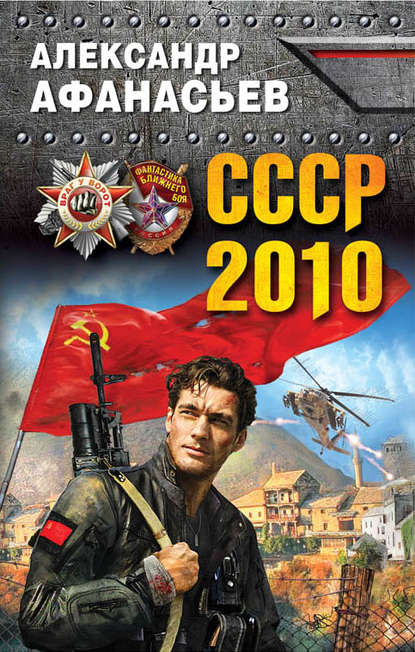Полная версия
Никто, кроме нас!
Окна. Развалины.
* * *«Апач» грохнулся в середине площади, взметывая обломки, по сторонам – пыль. В бинокль Боже видел, как на казачьей баррикаде, задирая юбки, скачет и явно что-то кричит молодая женщина. Но видимость после падения упала до нуля, подходила темнота, и Боже отложил бинокль и уснул.
Он спал глубоко, бесшумно дыша, не двигаясь, но каждые три минуты открывал глаза и секунд десять-пятнадцать вслушивался и всматривался в грохочущую смесь огня и тьмы за пределами своего участка.
Перед рассветом была атака. Но турки не умели воевать в темноте, и Боже видел, как они десятками гибли в нескольких заранее устроенных казаками «огневых коридорах». Он не думал о «своих» и «чужих». Война сейчас его не касалась совершенно. Где-то впереди, метрах в четырехстах, была цель. Вот и все.
Глядя в бинокль, Боже ел из банки консервированные сардины, запивая водой, в которой разболтал кучу таблеток глюкозы. Вода стала противной, и он вспомнил родник над селом. Маленький, с ледяной вкусной водой, с нерукотворной иконой Богоматери, проступившей в камне в незапамятные времена. Мама водила его туда за руку и научила молиться, прежде чем попить. Всего несколько слов…
Вот ОН.
Человек в сером лохматом камуфляже лежал в развалинах воздухозаборника. Странно было, что Боже не заметил его раньше. Сейчас он отчетливо видел голову, плечо, спину, винтовку – английскую «Супермагнум», замаскированную лохмотьями ткани. Человек лежал совершенно неподвижно, и Боже, нашарив его висок риской прицела, не стал стрелять.
Кукла. Будем вести себя так, словно это кукла. Может быть, это и есть кукла. Мы подождем выстрела (который будет означать чью-то смерть – конечно…). Тогда все определится.
Триста пятьдесят метров. Боже выставил дальность. Вот так. Ветер дул по площади, он выставил и поправку. И окаменел.
Вражеский снайпер тоже был неподвижен. Он хорошо замаскировался. Боже не мог себе не признаться, что, в принципе, мог и не заметить его раньше. Может, он тут и лежал. А может – приполз сюда ночью, а до этого стрелял из окон. А что он неподвижен – скорей пошевелится кукла, чем хороший снайпер.
Лица не видно. Оно было закрыто маской, чуть колышущейся. Не факт, что от дыхания.
Со стороны казаков подал голос «Утес». Он бил беспощадно, нудно, руша в щебень остатки бетонной стены…
Будет стрелять в пулеметчиков?
Не будет? Боже не стал бы…
Или все-таки это кукла?
Нет?..
Да?..
Пулемет умолк. Мухи вились над трупами убитых вчера турок – казаки обобрали их, со многих даже обувь сняли (дружинники этим брезговали), но убирать не стали, конечно, не в своем же тылу. Боже пришлось принюхиваться, чтобы различить запах гниения. Он настолько пропитал все вокруг, что стал неразличим, а это плохо, когда так «садится» обоняние…
Я камень.
Я неподвижен.
На спине можно различить следы ожогов – отец клал туда горящие угли, а Боже лежал неподвижно и отмечал цели на карточке, хотя глаза семилетнего мальчика застилали слезы. Потом он научился сдерживать и слезы.
Я не умею ненавидеть. В мире нет ничего и никого, на что стоит растрачивать ненависть в эти минуты. Если бы сейчас мимо прошел тот летчик, который сжег мой дом, маму и трех сестренок, я бы не пошевелился.
У меня нет имени. У меня нет народа. У меня ничего нет.
У меня нет дажеменя.
Выстрел!
Боже видел, как плавно, мягко дернулся длинный толстый ствол винтовки и качнулась голова в маске.
В следующую секунду голова дернулась снова – уже резко – и скользнула в сторону. А «Супермагнум» упал через камень, задрав приклад вверх.
Боже плавно открыл затвор «мосинки», выбрасывая стреляную гильзу…
…Последним выстрелом натовского снайпера был убит на позициях дроздовцев надсотник Хвощев.
* * *Остаток этого дня, ночь и весь следующий день Боже Васоевич лежал в своем укрытии, с каменным терпением отслеживая происходящее. Труп и винтовка тоже лежали на своих местах, никто не приходил за ними.
И больше никто не стрелял.
Почему Боже не уходил? Едва ли он сам мог сказать точно. Но вновь и вновь вспоминалось…
Отец бросает в рот сливу.
Ягода щелкает во рту.
«Я его убил».
Выстрел.
Отец падает.
Слива.
«Я его убил».
«Я его убил».
Отец ждал восемнадцать часов после своего попадания. Отец – человек, с 1991 года убивший двести девяносто семь врагов. В основном – таких же снайперов, как он сам. Он не мог обмануться, что попал. Он тоже видел труп. Двести девяносто восьмого.
Снайпер был не один?
Может быть, Боже убил второго?
Он ждал уже двадцать девять часов…
…Казачий сотник за стереотрубой был виден Боже боком. Со стороны позиций турок его не видели вообще.
Что такое? Откуда это… беспокойство? Боже повернулся в сторону врага. Что, что такое?.. Сейчас что-то…
Выстрел!..
…Командир 17-й кубанской сотни Федько был убит с дьявольской точностью. Определив его местонахождение по блеску стереотрубы, снайпер вогнал пулю в бруствер, и она пробила мешок с песком, низ трубы, линзы и левый глаз сотника.
Божеувидел этот выстрел. Потому что почувствовал его заранее.
Многие назвали бы этот выстрел «везением». Но это не было везением. Это была просто превосходная работа.
Вооруженный «Супермагнумом» вражеский снайпер лежал в полудесятке шагов от того, первого – под каменной плитой. Боже видел его ствол и край маски.
Боже не выстрелил.
Потому чтоне понял врага.
Снайпер никогда не придет стрелять туда, где до него погиб другой. Это значит, что позиция «засвечена».
Он сумасшедший?
Нет, не похоже. Выстрел был виртуозным.
Снова – виртуозным.
А сколько их вообще? Три? Два? Или… один?
Боже вгляделся в труп.
Нет мух. Возле трупа, пролежавшего на жаре начала августа почти тридцать часов, нет мух.
Кукла. Но он же видел, видел – эта кукла стреляла!!!
Труп вынесли ночью, на его место положили куклу?
Зачем?
Ничего не понимаю.
А это –ПЛОХО.
Но одно Боже понимал отчетливо.
Сейчас он не охотник. Сейчас он –дичь.
* * *– За последние шесть дней – пять убитых и двое раненых офицеров! Ты же говорил, что убил его!
– Отец тоже это говорил, – Боже встал. – Но думаю, ни он, ни я его не убили.
– Что это значит? – генерал-лейтенант Ромашов с ног до головы оглядел черногорского мальчишку. От Боже пахло потом, мочой, трупным гниением, лицо было черным и осунувшимся, но серые глаза смотрели спокойно и твердо. – Он так перебьет всех офицеров во Втором Кубанском и у дроздовцев. Ты это понимаешь?
– Я понимаю, – Боже кивнул. – Он один. И он очень хитрый. Но сегодня все кончится. Я его убью – или он убьет меня. Знаете, мне нужна большая бутылка кетчупа. И манекен из магазина.
* * *Вытряхнув последние капли «острого», Боже закрыл голову манекена, приладил парик, надвинул на равнодушное лицо маску. Устроил в подогнутых руках отцовский «маузер», выверил наводку и, плавно выдвинув манекен на свою позицию, лег чуть сбоку и сзади. Натянул тросик, привязанный к спуску.
Зачем я эту ерунду делаю?
Боже чуть поправил манекен и, глядя в прицел своей винтовки, плавно и сильно потянул тросик.
Выстрел! Боже видел, как сорвало маску с лежащего под плитой натовца… но это было совершенно несущественно, потому что в следующую секунду раздался ответный выстрел – и Боже забрызгало кетчупом из расколовшейся головы манекена.
Он поднял руку и, неспешно вытерев лицо, посмотрел на размазанные алые полосы.
Манекен был «убит» убитым за миг до этого снайпером.
В следующие несколько секунд в голове Боже было пусто-пусто. Он вообще не понимал происходящего.
Потом он схватил бинокль. И уже через несколько минут нашел то, о чем подумал.
Тоненький, но различимый проводок змеился от домов к развалинам, в которых Боже уложил двоих снайперов. Различимый… если знать,что должен различить.
Только…никого он не уложил.
Спектакль. Гениальный по задумке и хладнокровию исполнения.
Вот как погиб отец. Он поверил собственным глазам. Сделал то, чего нельзя делать. Слишком мало выждал.
Боже оказался удачливей – потому что ждал дольше. И начал сомневаться в том, что видел. А потом решил перестраховаться дурацкой куклой с кетчупом вместо мозгов – и сберег свои собственные.
Видимо, ТОТ тожеочень хотел убить черногорца.
Не было ни двух, ни трех снайперов в развалинах.
Быликуклы, которые там выставляли ночью.
Не было выстрелов из развалин. Вернее – были, но неприцельные,в сторону русских.
А на самом деле стреляличерез развалины. Из того самого окна за ними, в четырехстах метрах. Виртуозные выстрелы!!!
И был провод электроспуска, соединявшего винтовку в руках куклы с винтовкой в руках снайпера.
Вот откуда эффект «двойного» выстрела!
Два, а не двойной.
Снайпер стреляет через развалины – прицельно. Но одновременно стреляет и кукла – наудачу! И те, кто выслеживает снайпера, видят куклу.
Куклу, которая стреляет. Они стреляют в ответ. «Убивают». Докладывают.
А снайпер жив. И продолжает свое дело. Ему плевать, скольких его кукол запишут на свои счета снайпера обороняющихся.
Но сейчас – сейчас он сам на крючке. Потому что онвидел, как убил Боже. И наверняка видит винтовку, торчащую из трещины, и окровавленную голову за ней, на которую уже летят мухи. Они любят кетчуп…
Только одно окно. С нелепой занавеской, из-за которой давно стреляют только новички. С такой нелепой, что хочется усмехнуться и отвернуться от нее.
Боже выставил дальность прицела и замер в ожидании…
…Чучело появилось ночью. Боже усмехнулся про себя. На казачьих позициях кто-то играл на гармошке.
Сейчас ОН должен отметиться… есть!
Одна из складок на шторке разошлась и оказалась разрезом. В нем появился длинный массивный ствол. Качнулся и замер.
Боже нажал спуск…
…Единственное, чего он не мог теперь –уйти не посмотрев. Боже знал, что это глупость. Но он не мог. Просто – НЕ МОГ. Он должен был пробраться туда и глянуть – кто? Какой он?
Отец бы понял.
Бережно отложив «мосинку», Боже проверил себя. Четыре «РГД-5». Старый немецкий «вальтер» в открытой кобуре – с запасным магазином. Бебут в ножнах у правого бедра. «Винторез» с тремя запасными магазинами.
Он выждал еще. Снял и отложил к винтовке бинокль. И начал выбираться из укрытия.
* * *В подъезде лежала каска. Пахло трупами. Боже остановился, прислушиваясь, принюхиваясь, вглядываясь.
Никого. Тут нет никого живого. А вон – та дверь, за которой комната с тюлевой занавеской.
Он сделал еще два шага – и почувствовал, как под левой ногой порвался проводок.
Прыгая назад изо всех сил и понимая, чтоне успевает, Боже не испугался, не удивился. Он чувствовал только досаду. Досаду на свою глупость.
Взрыва «Элси», которой снайпер аккуратно и педантично прикрыл подход к себе с тыла, он уже не услышал.
* * *Первое, что Боже увидел над собой, был потолок какой-то комнаты – сложенный из серых плит, в отблесках костра.
Первое, что он подумал:
«Плен».
Раз он жив, но не лежит на камнях снаружи, а лежит в каком-то помещении – значит, это может быть только плен. Его подобрали враги и перетащили куда-то.
Он попытался пошевелиться, но наплыла такая дурнота, такая слабость, что Боже бессильно обмяк и прикрыл глаза, собираясь с силами.
Он хорошо себе представлял, что с ним сделают. Сперва ему отрежут указательные пальцы. Обязательно. Потом – по одному кусочку тела за каждую метку на прикладе «мосинки». (Ах да, «мосинка» осталась на лежке. Но и на «Винторезе» кое-что есть…) Потом… потом – что-то еще придумают. Долгое и сложное, конечно.
Ему не было страшно, хотя он очень ярко представит себе все это. Что ж. Значит, так будет. Его предкам турки выдумывали самые мучительные казни, потому что боялись отважных гайдуков. Это честь – умереть в муках, тем самым он станет ближе к сонму героев прежних веков. Надо только принять смерть достойно.
Боже попытался вспомнить молитву, но не смог. Зато на ум пришли с детства знакомые строки «Небесной литургии»:
…Због којих си на крсту висио;
Али твоја љубав све покрива,
Из љубави незнаније јављаш,
Из љубави ти о знаном питаш,
Да ти кажем што ти боље знадеш…
Дальше он прошептал вслух – зачем прятаться, пусть видят, что он очнулся – а как молитва это ничем не хуже любой другой, церковной:
Нису Срби кано што су били.
Лошији су него пред Косовом,
На зло су се свако измјенили…[6]
– Очнулся? – услышал он тихий – вернее, приглушенный – но звонкий голос. И удивленно повернул голову – все-таки сумел, хотя в ней перекатывался жидкий шар, смешанный из горячей ртути и боли.
Комната, в которой он находился, была небольшой, без окон – подвал или погреб… Костер горел у дальней стены, под поблескивающей решеткой вентиляции, прямо на полу, но между нескольких кирпичей, образовывавших примитивный и надежный очаг; на огне – там горели не дрова, а большие пластины сухого горючего – булькали два котелка. На большом толстом листе пенорезины лежали несколько одеял. Рядом – два больших ящика, с чем – не поймешь. На одном – две ручные гранаты, вроде бы американские, пистолет в маскировочной кобуре, пустые ножны от ножа, бинокль с длинными блендами. К другому был прислонен короткий «М4»-«Кольт» с барабанным магазином на пятьдесят патронов. По другую сторону костра стоял на тонких ножках десантный «М249» со свисающей лентой. Его частично закрывала наброшенная серо-черно-зелено-желто-коричневая бесформенная масса, вроде бы – накидка, похожая на накидку самого Боже.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Хочу со всем искренним уважением предуведомить читателей: в связи с большим количеством упоминаний в тексте многочисленных образцов нашей и зарубежной техники и оружия я не привожу его ТТХ и даже сколь-либо кратких объяснений, чтобы не превращать повесть в заклепочную поделку. Если кому-то ОЧЕНЬ надо обогатиться данными сведениями – это легко сделать через Интернет. Исключения будут сделаны лишь в некоторых случаях. (Здесь и далее – примечания автора.)
2
ДРОЗДОВСКИЙ, Михаил Гордеевич (1881–1919), российский генерал-майор (1918). В декабре 1917-го сформировал на Румынском фронте отряд, с которым прошел из Ясс через Украину к Ростову-на-Дону на соединение с Добровольческой армией; в ее составе командовал пехотной дивизией, получившей после его смерти название Дроздовской. В описанном мною варианте будущего элитные части добровольческого Русского национального войска носят те же названия, что и «именные» части Белой армии – каппелевцы, дроздовцы, марковцы и т. д., – и даже береты тех же цветов, какие имели полковые фуражки белых частей.
3
Подствольный гранатомет «ГП-30».
4
Воронежцы в самом деле называют жуткую комариную лужу Воронежского водохранилища не иначе как «морем»! Отсюда и ироничное название первой части книги.
5
Песня Д. Ляляева «Памяти детства».
6
Николай Велимирович (1880–1956) – епископ Сербской православной церкви.