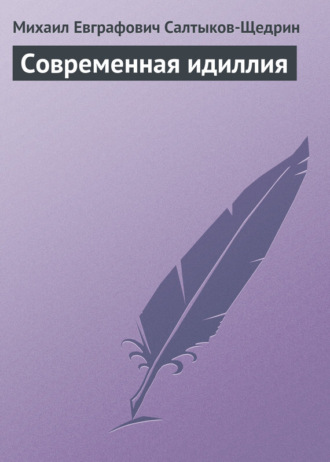 полная версия
полная версияСовременная идиллия
V
Итак, загадка разъяснилась: перед нами стоял бывший Кубарихин тапер, свидетель игр нашей молодости! Мы долго не могли прийти в себя от восхищения и в радостном умилении поочередно мяли его в своих объятиях. Да и он пришел в неописанное волнение, когда мы неопровержимыми фактами доказали, что никакое alibi[9] в настоящем случае немыслимо.
– "Чижик, чижик! где ты был?" – помнишь? – допрашивал Глумов.
– Помню! – ответил он, тщетно усиливаясь сообщить твердость дрогнувшему голосу.
– А помнишь ли, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоянную на воспламеняющих веществах, и как ты потом чуть с ума не сошел! – припомнил и я с своей стороны.
– Помню!
– А помнишь ли…
Словом сказать, припомнили такую массу забавных и вполне культурных шуток, что у старика даже волосы дыбом встали.
– Тогда еще у меня таксы-то этой не было! – сказал он, но на этот раз так благодушно, что не укоризна слышалась в его голосе, а скорее благодарное воспоминание о шалостях, свойственных юношам, получившим образование в высших учебных заведениях.
– Иван Иваныч! Как ты вырос! похорошел! – тормошил его Глумов.
– И как отлично одет! – присовокупил я, – точно сбираешься в первый раз показать свою дочь на бале у Кессених!
Но последние слова словно обожгли его. Он грустно взглянул на нас, и крупные слезы полились из его глаз, постепенно подмачивая объявление об издании газеты "Краса Демидрона".
– Друзья! не растравляйте старых, но не заживших еще ран! – обратился он к нам совершенно растроганный, – дочь, о которой вы говорите, дочь, которая была украшением балов Марцинкевича, – ее уже нет! И моей милой, беленькой Амалии, которая угощала вас, господин Глумов, шмандкухеном, и ее уже нет! Всех, всех пережило это бедное, старое сердце… и не разбилось! О, это было хорошее, светлое, счастливое время, несмотря на то, что я тогда носил фрак, перешитый из вицмундира, оставшегося после титулярного советника Поприщина!
– Но теперь… разве ты несчастлив?
– О, теперь!!! теперь – я только тень того веселого Ивана Иваныча, которого вы когда-то знавали в этой самой квартире! Хотя же, no-наружности, я и имею вид благородного отца, но, в сущности, я – тапер более, нежели когда-либо!
– Но отчего же ты помолодел?
– Такова воля провидения, которое невидимо утучняет меня, дабы хотя отчасти вознаградить за претерпеваемые страдания. Ибо, спрашиваю я вас по совести, какое может быть страдание горше этого: жить в постоянном соприкосновении с гласною кассою ссуд и в то же время получать не более двадцати пяти рублей в месяц, уплачивая из них же около двадцати на свое иждивение?
– Послушай, Ваня! да неужели же беленькая, маленькая Мальхен до того переродилась, что сделалась содержательницей гласной кассы ссуд?
– Мальхен – никогда! Мальхен смотрит теперь с небеси – и ничего не видит! А содержательница гласной кассы ссуд – это Матрена Ивановна!
– Так ты, значит, женился в другой раз? Да расскажи же, братец, расскажи!
– Это тяжелая и скорбная история, которую я, впрочем, охотно рассказываю всякому, кто предлагает мне серьезное угощение. И если вы желаете назначить мне день и час в "Старом Пекине" или в гостинице "Москва", то я – готов!
– Но отчего ж не теперь? – прервал Балалайкин, вдруг проникшийся чувством великодушия, – по счастливой случайности, я сегодня совершенно свободен от хождения, а что касается до угощения, то, наверное, я удовлетворю вас несравненно лучше, нежели какой-нибудь "Пекин"!
И мы и Очищенный охотно согласились. Балалайкин хлопнул в ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили в комнату громадный поднос, уставленный водками и закусками, а два других лжесвидетеля последовали за первыми с другим подносом, обремененным разнообразным холодным мясом.
– Рекомендую! – пригласил нас Балалайкин, – вот эта икра презентована мне Вьюшиным за поздравление его с днем ангела, а этот балык прислан прямо из Кокана бывшим мятежным ханом Наср-Эддином за то, что я подыскал ему невесту. Хотите, я прочту вам его рескрипт?
– Ах, сделайте милость!
– Я всегда держу его в кармане как свидетельство, что все поручения исполняются мною без обмана. Вот этот рескрипт!
Копия
"Достопочтенному, могущественному и милостивому господину аблакату Балалайке, в Питембурхи.
Свет очей моих, господин аблакат Балалайка!
Докладываю вам, что присланную при письме девицу Людмилу мы в сохранности получили, и все, что, по описи, той девице принадлежит – все оное оказалось исправно. И пишете вы нам, что оная Людмила есть дочь киевского князя Светозара, а в плакате значится: дочь фейерверкера. И для нас это все единственно, а так только к слову о сем упоминаем, что обманули вы нас. А, впрочем, с тех пор, как мы после поражения наших войск под Махрамом в верное подданство России перешли и под власть капитан-исправника Сидора Кондратьича подведены, в первый раз, по милости оной девиды Людмилы, восчувствовали, что и горесть не без утешения бывает. И за все то ваше одолжение и причиненную нам радость жалуем вам тартун (приношение): один глиняный кувшин воды и балык весом двадцать фунтов. Ах, отменна балык!
Засим, да спасет вас Аллах, а я того желаю.
Бывший мятежный, а ныне верный господина моего Сидора Кондратьича слуга Сеид-Махомед-Наср-Эддин, лже-хан".
– Зачем же он воды-то кувшин прислал? – полюбопытствовал я.
– А у них вода в редкость – вот он и вообразил, что и невесть как мне этим угодит. Хотите, я и кувшин покажу?
– Пожалуйста!
Принесли кувшин, осмотрели. Кувшин как кувшин, только сырой глиной воняет.
– Да, господа, немало-таки было у меня возни с этим ханом! – сказал Балалайкин, – трех невест в течение двух месяцев ему переслал – и все мало! Теперь четвертую подыскиваю!
– Осмелюсь вам доложить, – предложил Очищенный, – есть у меня на примете девица одна, которая в отъезд согласна… ах, хороша девица!
– Прекрасно-с, будем иметь в виду. Однако, признаюсь вам, и без того отбою мне от этих невест нет. Каждое утро весь Фонарный переулок так и ломится в дверь. Даже молодые люди приходят – право! звонок за звонком.
– Странно, однако ж, что за все эти хлопоты он вас балыком да кувшином воды отблагодарил! – удивился Глумов.
– Que voulez-vous, mon cher![10] Эти ханы… нет в мире существ неблагодарнее их! Впрочем, он мне еще пару шакалов прислал, да черта ли в них! Позабавился несколько дней, поездил на них по Невскому, да и отдал Росту в зоологический сад. Главное дело, завывают как-то – ну, и кучера искусали. И представьте себе, кроме бифштексов, ничего не едят, канальи! И непременно, чтоб из кухмистерской Завитаева – извольте-ка отсюда на Пески три раза в день посылать!
– Тсс…
– А вот эти кильки… это достопримечательность! Я их сам, собственными руками, прошлым летом ловил. Вы знаете, ведь я, было, в политике попался… как же! да! Ну, и надобно было за границу удирать. Нанял я, знаете, живым манером, чухонца: айда, мина нуси, сколько, шельма белоглазая, возьмешь Балтийское море переплыть? Взял он с меня тысячу рублей денег да водки ведро, уложил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой – валяй по всем по трем! Только как к острову Готланду стали подъезжать – тогда выпустил. Тут-то я и ловил кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта история – одно недоразумение. Да, господа, испытал я в то время! Как ни хорошо за границей, а все-таки с милой родиной расставаться тяжело! Ехали мы, знаете, мимо Кронштадта – с одной стороны Кронштадт, с другой Свеаборг – а я лежу и думаю: вдруг выпалит? Ведь броненосцев пробивает – а мы… что такое мы?!
– Не выпалил?
– Нет, зазевались. Помилуйте! броненосцев пропускает, а наша лодка… представьте себе, ореховая скорлупа – вот какая у нас была лодка! И вдобавок поминутно открывается течь! А впрочем, я тогда воспользовался, поездил-таки по Европе! В Женеве был – часы купил, а потом проехал в Париж – такую, я вам скажу, коллекцию фотографических карточек приобрел – пальчики оближете!
При упоминовении о карточках Очищенный сладострастно зачавкал губами.
– Мне бы… – промолвил он, собираясь чихнуть.
– Покажу-с! я вам, господа, все покажу, все мои коллекции! Такие карточки есть, что даже постичь невозможно – parole d'honneur![11] Позвольте, что там еще такое? ба! кажется, семга? Обращаю ваше внимание на нее, messieurs! Эту самую семгу Немирович-Данченко собственными руками изловил! Мы G ним вместе в Соловках были, пиво-мед пили, по усам текло, в рот не попало – так вот он, на память связывающих нас уз, изловил и прислал! Теперь от нее только хвост остался; но удивительный! Немирович предиковинные анекдоты об этой семге рассказывает. Уморительная, говорит, рыба! и умна… совсем как человек! Сидишь этак на берегу моря, разложишь костер, вскипятишь в котелке воду, и кликнешь: иси! Ну, она видит, что ее-то именно и недостает, чтоб вышла ухасейчас сама, живая, и приплывет! Клянусь! хотите, я вас с Немировичем познакомлю?
– Непременно! Хотим! хотим!
– На днях ваше желание будет выполнено. А вот эти фиги мне Эюб-паша презентовал… Теперь, впрочем, не следовало бы об этом говорить – война! – ну, да ведь вы меня не выдадите! Да вы попробуйте-ка! аромат-то какой!
– Эюб-то за что же вам подарки делает?
– А я тут ему одно сведеньице в дипломатических сферах выведал… так, пустячки!
– Балалайкин! пощадите! ведь вы себя в измене отечеству обличаете! – воскликнули мы в ужасе.
– Ah, mais entendons-nous![12] Я, действительно, сведеньице для него выведал, но он через это самое сведеньице сраженье потерял – помните, в том ущелий, как бишь его?.. Нет, господа! я ведь в этих делах осторожен! А он мне между прочим презент! Однако я его и тогда предупреждал. Ну, куда ты, говорю, лезешь, скажи на милость! ведь если ты проиграешь сражение – тебя турки судить будут, а если выиграешь – образованная Европа судить будет! Подавай-ка лучше в отставку!
– Не послушался?
– Не послушался – и проиграл! А жаль Эюба, до слез жаль! Лихой малый и даже на турку совсем не похож! Я с ним вместе в баню ходил – совсем, как есть, человек! только тело голубое, совершенно как наши жандармы в прежней форме до преобразования!
Балалайкин на минуту задумался, как бы захлебнувшись. Очевидно, лганье плыло на него с такой быстротой, что он не успевал справиться с массами беспрерывно вырабатывающегося материала.
– Да, господа, много-таки я в своей жизни перипетий испытал! – начал он вновь. – В Березов сослан был, пробовал картошку там акклиматизировать – не выросла! Но зато много и радостей изведал! Например, восход солнца на берегах Ледовитого океана – это что же такое! Представьте себе, в одно и то же время и восходит, и заходит – где это увидите? Оттого там никто и не спит. Зимой спят, а летом тюленей ловят!
– Желал бы я знать, тюленье мясцо – приятно оно на вкус? – полюбопытствовал Очищенный.
– Мылом отдает, а, впрочем, мы с Немировичем ели. Немирович, Латкин и я. Там, батюшка, летом семьдесят три градуса морозу бывает, а зимой – это что ж! Так тут и тюленине будешь рад. Я однажды там нос отморозил; высморкался – смотрю, ан нос в руке!
– Ах, черт побери!
– Да, батюшка. К счастью, я сейчас же нашелся: взял тепленького тюленьего маслица, помазал, приставил – и вот как видите!
Он предложил нам освидетельствовать свой нос: действительно, нельзя было даже заподозрить, чтоб тут когда-нибудь пустое место было.
– Всего я испытал! и на золотых приисках был; такие, я вам скажу, самородки находил, что за один мне разом пять лет каторги сбавили. Теперь он в горном институте, в музее, лежит.
– Гм… да? А скажите, пожалуйста, слыхивал я, что на приисках рабочие это самое золото очень искусно скрывают. Возьмет будто бы иной золотничок или два песочку и так спрячет, что никакими то есть средствами… Правда ли это?
– Не по золотничку, а фунтов по пяти разом прячут – вот я вам как скажу! Я сам… да что тут! вы думаете, состояние-то мы откуда? Обстановка эта и все?..
– Неужто?
– Все оттуда! там всему начало положено, там-с! Отыскивая для мятежных ханов невест, не много наживешь! Черта с два – наживешь тут! Там все, и связи мои все там начались! Я теперь у всех золотопромышленников по всем делам поверенным состою: женам шляпки покупаю, мужьям – прически. Сочтите, сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирские? а нельма? – это не в счет! Мне намеднись купец Трапезников мамонтов зуб из Иркутска в подарок прислал – хотите, покажу?
– Ах, сделайте ваше одолжение!
– И покажу, если, впрочем, в зоологический сад не отдал. У меня денег пропасть, на сто лет хватит. В прошлом году я в Ниццу ездил – смотрю, на горе у самого въезда замок Одиффре стоит. Спрашиваю: что стоит? – миллион двести тысяч! Делать нечего, вынул из кармана деньги и отсчитал!
– Ах, господи!
Очищенный не выдержал: встал с кресла и перекрестился.
– Видал я, господин Балалайкин! даже очень часто видал! – сказал он, – но, признаюсь…
– Я в Ницце двадцать лет жил, так все даже удивлялись. Оркестр у меня был, концерты по пятницам…
Балалайкин постепенно вошел в такой экстаз, что пена у него показалась у рта. Тяжело становилось.
– Скажите, Балалайкин, как вам приходится покойный Репетилов? – спросил я, чтобы как-нибудь разредить атмосферу лганья.
– Репетилов? мне? Помилуйте! да он меня от купели воспринимал! Но, кроме того, и еще чем-то приходится. Наш род очень древний! Мы – пронские – Прокопа Ляпунова помните? – ну, так мы все по женской линии от него. Молчалины, Репетиловы, Балалайкины, Фамусовы – все! А Чацкий Александр Андреич – тот на границе с скопинским уездом!
– А знаете ли, Балалайкин, что про вас, пронских, дурная слава идет?
– Это что лгуны-то мы, что ли? Да, нечего сказать, любят-таки мои соотечественники поврать! Представьте себе, на днях какой случай был. Приезжает ко мне один компатриот: знаешь ли, говорит, что твоя родительница опять к Илюшке Соколову в табор сбежала?[13] Натурально, сейчас же телеграмму в триста тридцать слов к Загорецкому: так и так, нельзя ли предотвратить? И что ж! ровно через год получаю ответ: помилуй, сердечный друг! твоя родительница вот уже третий год, как без ног в Пронске на постоялом дворе лежит! Нет, вы мне скажите, зачем он мне солгал? Взбудоражил, заставил горячку пороть? а?
Беседуя таким образом, мы и не заметили, как съели и выпили все, что находилось на подносах. Наконец Глумов первый опомнился.
– А ведь мы сели совсем не с тем, чтобы пронское вранье слушать, – сказал он. – Иван Иваныч! ты, кажется, нам историю своих превращений обещал?
– Я готов!
– Так вот что, Балалайкин! велите-ка вы нам подать тех сигар, которые вам гаванский губернатор за лжесвидетельство прислал, да ликерцу того, который вам подарил Эрбер за написание объявления о распродаже вин и ликеров! – без церемонии распорядился Глумов.
Мы перешли в кабинет Балалайкина, и хотя он умолял нас прежде всего просмотреть приобретенную им в Париже коллекцию фотографических картинок, но мы переломили себя и отложили это благонамеренное занятие до более благоприятного времени. Усевшись кругом стола, покуривая удивительнейшие "non plus ultra"[14] и имея перед собой рюмки с душистым ликером des iles[15], мы были совершенно готовы к восприятию исповеди вольнонаемного редактора газеты «Краса Демидрона».
– Рассказывай-ка, Иван Иваныч, рассказывай, брат! – молвил Глумов, усаживаясь поудобнее в кресло и зажмуривая глаза.
Очищенный начал.
VI
"Я – отпрыск старинного дворянского рода, и настоящая, коренная моя фамилия – Гадюк. Очищенными же мы стали зваться недавно, по одному особенному случаю, о котором я упомяну в своем месте.
Насчет происхождения моих предков существуют два сказания: одно, мало достоверное, принадлежит маститому историку из Москвы, другое, еще менее достоверное, сложилось здесь, в Петербурге.
Маститый московский историк производит наш род из доисторического Новгорода. Был-де новгородский "благонамеренный человек" (а по другим источникам, "вор"), Добромысл Гадюк, который прежде других возымел мысль о призвании варягов, о чем и сообщил на вече прочим новгородским обывателям. "С незапамятных времен, – сказал он, – варяги учат нас уму-разуму: жгут города и села, грабят имущества, мужей убивают, жен насилуют, но и за всем тем ни ума, ни разума у нас нет. Как вы, други милые, полагаете, отчего?" Но так как новгородцы, вместо ответа, только почесали в затылках, то Гадюк продолжал: "А я так знаю отчего. Оттого, други милые, что хоть и учат нас варяги уму-разуму, но методы правильной у них нет. Грабят – не чередом, убивают – не ко времени, насилуют – не по закону. Ну, и выходит, что мы ихней науки не понимаем, а они растолковать ее нам не могут или не хотят. Так ли я, братцы, говорю?" Дрогнули сердца новгородцев, однако поняли вольные вечевые люди, что Гадюк говорит правду, и в один голос воскликнули: "Так!" – "Так вот что я надумал: пошлемте-ка мы к варягам ходоков и велим сказать: господа варяги! чем набегом-то нас разорять, разоряйте вплотную: грабьте имущества, жгите города, насилуйте жен, но только, чтоб делалось у нас все это на предбудущее время… по закону! Так ли я говорю?" Опять дрогнули сердца новгородцев, но так как гадюкова правда была всем видима, то и опять все единогласно воскликнули: "так!" Тогда выступил вперед старейшина Гостомысл и вопросил: "А почему ты, благонамеренный человек Гадюк, полагаешь, что быть ограбленным по закону лучше, нежели без закона?" На что Гадюк ответил кратко: "Как же возможно! по закону или без закона! по закону, всем ведомо – лучше!" И подивились новгородцы гадюковой мудрости и порешили: призвать варягов и предоставить им города жечь, имущества грабить, жен насиловать – по закону!
Сказано – сделано. Прибыли из-за моря три князя: Рюрик – в Новгород, Синеус – в Ладогу, Трувор – в Изборск. Приехали и легли с дороги спать. Только спят они и видят во сне все трое один и тот же ряд картин, прообразующих будущие судьбы их нового отечества. Сначала удельный период – князья жгут; потом татарский период – татары жгут; потом московский период – жгут, в реке топят и в синодики записывают; потом самозванщина – жгут, кресты целуют, бороды друг у дружки по волоску выщипывают; потом лейб-кампанский период – жгут, бьют кнутом, отрезывают языки, раздают мужиков и пьют венгерское; потом наказ наместникам "како в благопотребное время на законы наступать надлежит"; потом учреждение губернских правлений "како таковым благопотребным на закон наступаниям приличное в законах же оправдание находить", а, наконец, и появление прокуроров "како без надобности в сети уловлять". Вскочили три брата в смущении великом и не знают, как быть. Думают: а что, коли ежели из-за нас вся эта программа да выполнится? И стали они тосковать. Первый затосковал Синеус в Ладоге – и утопился в озере; второй затосковал Трувор в Изборске – и повесился на вожжах. Рюрик же, как имел ум свободный, сразу принять напрасную смерть не пожелал. Созвал он вече и обратился к нему с следующею речью: "Видел я, господа новгородцы, на новоселье у вас нехороший сон! Будто бы через меня по всей Руси губернские правления пошли, а потом и палаты государственных имуществ… И так меня этот сон расстроил, что уж и не знаю, как с собой благороднее порешить: утопиться или повеситься?" Но новгородцы, видя, что у князя ихнего ум свободный, молчали, а про себя думали: не ровен случай, и с петли сорвется, и из воды сух выйдет – как тут советовать! Гостомысл же произнес: гм! – и тут же испустил дух. Тогда выступил вперед благонамеренный человек Гадюк и за всех ответил: "А по-моему, ваше сиятельство, если вся эта программа и подлинно впоследствии выполнится, так и тут ни топиться, ни вешаться резону нет!" Задумался Рюрик; по нраву пришлись ему гадюковы слова; но, с другой стороны, думается: удельный период, московский период, татарский период… нехорошо! Как бы так устроить, чтобы всю вину на самих новгородцев свалить? "Помилуй, братец, – говорит, – ведь во всех учебниках будет записано: вот какие дела через Рюрика пошли! школяры во всех учебных заведениях будут долбить: обещался-де Рюрик по закону грабить, а вон что вышло!" – "А наплевать! пускай их долбят! – настаивал благонамеренный человек Гадюк, – вы, ваше сиятельство, только бразды покрепче держите, и будьте уверены; что через тысячу лет на этом самом месте…" Тогда Рюрик совсем уже повеселел: "Видел я и это во сне, – прервал он Гадюка, – даже художника Микешина видел, но, по скромности, о сем умолчал. Так как же, господа новгородцы? По-вашему, стало быть, наплевать?" – "Наплевать!" – повторил Гадюк. И опять подивились новгородцы гадюковой мудрости и в один голос воскликнули: "Так! наплевать!" Рюрик же, натянув бразды, сказал: ин быть по-вашему! и начал действовать – по закону!"
– Так вот каков был мой первый достоверный предок! – заключил Очищенный, оглядывая нас торжествующим взглядом и на минуту прерывая рассказ, дабы удостовериться, какое впечатление произвела на нас его генеалогия.
Впечатление это было разнообразное. Балалайкин – поверил сразу и был так польщен, что у него в гостях находится человек столь несомненно древней высокопоставленности, что, в знак почтительной преданности, распорядился подать шампанского. Глумов, по обыкновению своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, скептически. Но я… я припоминал! Что-то такое было! – говорил я себе. Где-то в прошлом, на школьной скамье… было, именно было!
– Глумов! не помнишь ли? – обратился я к моему другу.
Не успел я произнести эти слова… и вдруг вспомнил! Да, это оно, оно самое! Помилуйте! ведь еще в школе меня и моих товарищей по классу сочинение заставляли писать на тему: "Вещий сон Рюрика"… о, господи!
– Глумов! да неужто же ты не помнишь? еще мы с тобой соперничали: ты утверждал, что вече происходило при солнечном восходе, а я – что при солнечном закате? А "крутые берега Волхова, медленно катившего мутные волны…" помнишь? А "золотой Рюриков шелом, на котором, играя, преломлялись лучи солнца"? Еще Аверкиев, изображая смерть Гостомысла, написал: "слезы тихо струились по челу его…" – неужто не помнишь?
В виду столь ясных указаний Глумов мгновенно преобразился. Сладко нам было, отрадно. Под влиянием наплыва чувств мы оба вскочили с мест и поцеловались.
– Помню! все помню! И "шелом Рюрика", и "слезы, струившиеся по челу Гостомысла"… помню! помню! помню! – твердил Глумов в восхищении. – Только, брат, вот что: не из Марфы ли это Посадницы было?
– Помилуй, душа моя! именно из "Рюрикова вещего сна"! Мне впоследствии сам маститый историк всю эту проделку рассказывал… он по источникам ее проштудировал! Он, братец, даже с Оффенбахом списывался: нельзя ли, мол, на этот сюжет оперетку сочинить? И если бы смерть не пресекла дней его в самом разгаре подъятых трудов…
– А что ты думаешь! ведь сюжет для оперетки – хоть куда!
– Это, мой друг, такой сюжет! такой сюжет! Если б только растолковать Оффенбаху как следует! Представь себе, например, хор помпадуров, или хор капитан-исправников! или хор судебных следователей по особенно важным делам! Ведь это что такое!
– Отлично – что и говорить! Да, брат, изумительный был человек этот маститый историк: и науку и свистопляску – все понимал! А историю русскую как знал – даже поверить трудно! Начнет, бывало, рассказывать, как Мстиславы с Ростиславами дрались, – ну, точно сам очевидцем был! И что в нем особенно дорого было: ни на чью сторону не норовил! Мне, говорит, все одно: Мстислав ли Ростислава, или Ростислав Мстислава побил, потому что для меня что историей заниматься, что бирюльки таскать – все единственно!
– Да ведь, в сущности, оно…
Словом сказать, мы бы, наверное, увлеклись воспоминаниями, если б Очищенный не напомнил, что ему предстоит еще многое рассказать. Исполнивши это, он продолжал:
"Другое сказание насчет происхождения моих предков сложилось на лоне той сыскной исторической школы, которая хотя и имеет своим родоначальником Бартенева из Москвы, но развилась и настоящим образом возмужала здесь, в Петербурге. Сказание это гласит кратко: первый Гадюк был выходец из Орды, который, по распоряжению начальства, познал истинного бога, причем восприемниками были: генерал-майор Отчаянный и княжна Вертихвостова. Впрочем, мемуары последней уже предоставлены потомками ее в распоряжение "Русской старины" и, без сомнения, прольют свет на это замечательное происшествие.
Я не буду говорить о том, которое из этих двух сказаний более лестно для моего самолюбия: и то и другое не помешали мне сделаться вольнонаемным редактором "Красы Демидрона". Да и не затем я повел речь о предках, чтобы хвастаться перед вами, – у каждого из вас самих, наверное, сзади, по крайней мере, по Редеде сидит, а только затем, чтобы наглядно показать, к каким полезным и в то же время неожиданным результатам могут приводить достоверные исследования о родопроисхождении Гадюков.









