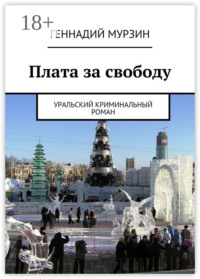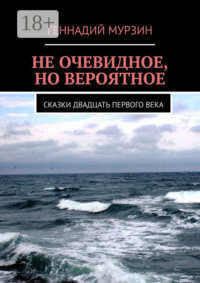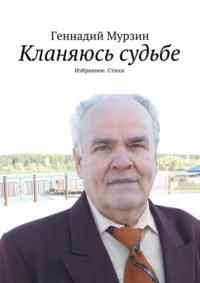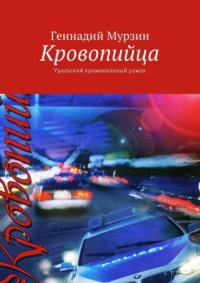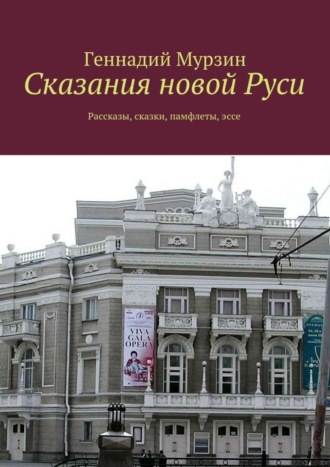
Полная версия
Сказания новой Руси. Рассказы, сказки, памфлеты, эссе
Пауза. Дядюшка светится: воспоминания ему явно доставляют удовольствие.
– Ха! – коротко смеется он. – Прихожу, бывало, в типографию, а тамошние бабоньки ахают да охают: откуда, дескать, и что берет девка? Провела, мол, в коллективе политинформацию, разъяснила нам, дурам набитым, что есть социализм по-французски. Те коммунисты, сказала, отличаются от наших тем, что на дух не принимают диктатуры пролетариата, что не на словах, а на деле за свободу слова, печати, собраний и митингов, что противники вождизма, что мечтают построить общество, в котором, как в роскошном букете, найдется свое место каждому цветку… Слушаю я все это и млею… Приятно… – дядюшка опять смеется. – Правильно говорят: с кем поведешься, того и наберешься… Так-то вот, разлюбезная моя племянница.
Соглашаюсь опять: рядом с такими, как мой дядюшка, дур не было, нет и быть не может. Оттого, пожалуй, и доживает свой век в одиночестве. Тяжело таким в личной жизни. Редко, когда встречают умную бабу, которая бы понимала и относилась снисходительно даже к чудачествам.
– Да… уж, – произносит свое любимое словосочетание, ставшее таковым после первого же просмотра фильма «Двенадцать стульев». – Была Лёлька умницей и не стало. Вернулась туда, откуда, – он еще раз повторил, – я ее вытащил за шкирку. Дура дурой теперь… Не может умная баба прятать свою внешность за изображением полувековой давности… Не может!..
Я обнимаю дядюшку и целую в гладко выбритую и надушенную запахами Франции щечку. Мы расстаемся. Через недельку, а то и раньше, вновь забегу на минутку.
Признаюсь: обожаю дядюшку. Сильнее, простите меня, отца родного.
3. Ему респект и уважуха
Поручив Серёженьке, мужу своему, совершить вечерний моцион с Настюхой, пятилетней нашей озорницей-дочуркой, решила сбегать к дядюшке, попроведать. С неделю, наверное, не была. Звонила, однако… Дядюшка не из болтунов и обычно отделывается короткими шуточками. На душе спокойнее, когда увижу своими глазами, что со стариком всё в порядке.
У дверей трижды нажала кнопку звонка. Открыл тотчас же, будто ждал: то ли увидел меня через кухонное окно, выходящее во двор, то ли интуиция указала на факт моего приближения.
Обняв и чмокнув дядюшку в шершавую щеку, прошла на кухню. Поставив на стол трехлитровую банку, присела. Дядюшка подошел, близоруко осмотрел со всех сторон.
– Полнёхонька, – сказал он и сердито (я-то точно знаю, что его сердитость напускная) спросил. – Сдурела? Деньги, что ли, лишние завелись? Зачем тратишься? Муж-то вряд ли одобряет этакую транжиру.
– Какая же я транжира, дядюшка? Совсем нет. Просто: захотелось побаловать тебя…
– Избалуешь, приучишь… Будет плохо… Как после жить-то?..
– Перестань, дядюшка, – я нахмурилась, будто обиделась. – Медок свежий, настоящий. Пасечник, у которого беру, надежный. В твоем возрасте такой медок вдвойне полезен.
– Не напоминай про возраст, – укорил дядюшка и даже отвернулся.
– Обиделся? Ты что? Чай, – это его любимое с недавних пор словечко, – не красна девица.
– Все равно… Старость, чай, не радость… Для всякого… Насчет мёда, то… я и сам в состоянии…
Я позволила тут прервать.
– О чем речь, дядюшка?! На твою, извини, вшивую пенсию?..
– Кстати, – он ударил себя в грудь, – максимальная. Как у большинства…
– Твоя максималка, дядюшка, – смешная.
– Какая есть, племянница, на ту и живу. По одёжке, как говорится, привык протягивать ножки. По миру не хожу, в долги не залезаю, в жилетку никому не плачусь, – присев напротив, ударил ладонью по столешнице. – Одним словом, нормально живу.
– Нормально?! – переспросила я. – Нормально, когда пенсионер, имея за спиной сорок два года непрерывного и безупречного трудового стажа, отдав всё лучшее обществу, перебивается с рубля на рубль и вынужден экономить на всем, в том числе и на своем здоровье? Нормально, говоришь, когда власть одной рукой прибавляет твою пенсию на триста рублей, а другой рукой тут же, через повышение тарифов на коммуналку, допустим, отнимает шестьсот? Может, пойдешь и расцелуешь эту власть за то, что ты не умираешь с голоду?
– Ну, племянница… Целоваться с властью я не буду… Непривычно… Да и противно… Оставляю это занятие другим… Тем же ура-патриотам, живущим мечтами чем-либо поживиться с барского стола.
Я встала:
– Вот за это тебе, дядюшка, как выражается молодое поколение, – респект и уважуха, – легонько погладив старика по стремительно редеющим волосам и еще раз чмокнув в щечку, припустив пафоса, который, мне думается, в данном случае вполне уместен, добавила. – Гордый человек – сильный духом человек и ты у меня именно такой.
– Чай, подзагнула, племянница?
– Ни на грамм! Что же касается власти, – добавила я, – то… Пусть идет далеко и надолго.
И мы, не сговариваясь, одновременно рассмеялись.
4. Конкурент
Столь терпеливого и благодарного слушателя, чем я, пожалуй, у моего любимого дядюшки никогда не было. Заскочила, вот, опять же на минуту, а засиделась на час.
Сидим вдвоем. Пьем чай. Разговариваем. Не про политику, которой дядюшка отдает предпочтение, а я же, напротив, терпеть не могу, поэтому увожу в сторону, подальше от политических склок и свар.
Хватило ума (баба и что с меня возьмешь?) ни к селу, ни к городу ляпнуть:
– Дядюшка, поклонниц у тебя, думаю, хватало… На виду всегда был.
– Хм, – дядюшка отправил в рот печенюшку, запил чаем и только после этого заметил. – Как тебе сказать…
– Скажи, как было.
– Было дело… Когда-то… Не пообижусь. Особенно, когда с молодежью работал… Да.. Я ведь, сама видишь, не из тех… Судьбой обделен.
– Скажешь, – я покачала головой.
– В том смысле, что, – он поспешил с уточнением, – комплекции… не то, чтобы… Ростом тоже не на зависть… В годы моей юности качаться как-то не в моде считалось. А девчонки, как прежде, так и нынче, гренадерской стати парнишек предпочитают.
Я заметила:
– Не телом богат мужчина, а мозгами и духом.
Дядюшка, рассмеявшись, подмигнул.
– Всё правильно, а сама? Вон, какого крепкого мужичка выбрала.
– Само собой получилось… Специально не выбирала…
– Гм… Все говорят… Значит, вот так… Конкурировать приходилось… Часто…
– Чую, обставлял конкурентов?
– Врать не стану: бывало… Вот случай такой…
– Это после какой женитьбы?
– После первой, племянница… Когда в разведенных какое-то время ходил… Вот… Познакомился с девчушкой: ей восемнадцать, а мне двадцать семь. Валюшкой звали. Белокурая, круглолицая. На лбу – чёлочка, в серых глазах – поволока. Спокойная. Вечно задумчивая. Штукатуром-маляром работала на стройке. После строительного училища. Словом, как говорит нынешняя молодежь, зацепила. Крепко. Думал, что навсегда… Да… Не о том речь… Знаешь, спортивный интерес зажегся после того, как узнал, что у Валюшки парень есть. Мастер спорта по вольной борьбе, между прочим. Призер чемпионата России. Так сказать, не мне чета.
– Почувствовал конкурента и…
– Особенный азарт проявился. Захотелось щелкнуть по носу соперника.
– Как, удачно?
– Нормально… Увел девчонку… Оставил на бобах борца. Только между нами, племянница: у Валюшки-то я стал первым мужчиной… Ну, понимаешь?..
Я рассмеялась:
– Трудно не понять.
Дядюшка вздохнул.
– Такие мои дела.
– Испортил девчонку и – в кусты?
– Думал жениться… после того, как всё случилось, однако не срослось.
– У Федорки – всю жизнь отговорки.
– Да… нет… Планировал серьезно.
– Что могло помешать? Может, первый сексуальный опыт пришелся девчонке не по душе?
– Вроде, все было в порядке… Мы еще долго встречались, с полгода, а потом… Не предупредив даже меня, исчезла.
– Как исчезла?!
– Обыкновенно… Тайком уволилась и испарилась.
– Странно. Не пробовал искать?
– Обиделся за ее выходку… К тому же времени тогда не было, чтобы дела сердечные решать.
– Осуждаю, – вынесла я вердикт.
– Не больше все равно, чем я. Хотел бы найти… Хотя бы встретиться… Поговорить… Спустя почти пятьдесят лет, услышать, почему так поступила.
– Что мешает? В Интернете…
Дядюшка сердито прервал.
– А, ерунда! Пробовал… Ни черта! Все говорят: кого угодно можно в Интернете найти. Я пошел и… фиг вам. Более того, племянница: даже друзей юности, с которыми утерял связь, не могу отыскать, а что говорить про женщину, которая могла несколько раз поменять фамилию?
– Да, тяжелая история, – сказала я и стала собираться домой, где меня ждали, в отличие от дядюшки, любимый муж и дети.
Правда подкосила
В райкоме КПРФ идет заседание бюро. У плотно прикрытых дверей стоят и волнуются – Михаил, Ефим и Семен: их сегодня должны принять в члены. Все – прохиндеи еще те. Им эта партия, если честно, – как корове пятая нога. Однако… Уж очень хочется стать авангардом, то есть стать тем, у кого шансов выбиться наверх невероятно много. А выбившись, будут близки к госкормушке. Желание естественное и понятное каждому российскому человеку.
Томление, похоже, закончилось.
Первым проскальзывает в заветный кабинет Михаил. Через пару минут он возвращается – лицо так и сияет. Доволен, значит, и счастлив.
Ефим и Семен – к нему.
– Ну и что?
– Как там?
– Все отлично! Приняли!
Ефим и Семен продолжают любопытствовать:
– А что спрашивали?
– Трудные, поди, вопросы?
– Да, разные.
– Например! – Вскричал один.
– Например! – Вскричал другой.
– Спросили, кто был мой дед… До пролетарской революции.
– А ты что?
– Правду сказал…
– А именно? – Настаивает Ефим
– Ну… Сказал, что… Мой дед владел заводом. Ну, не таким огромным заводом, как, допустим, «Уралмаш», а маленьким-маленьким сахарным заводиком. Меня похвалили за правдивый ответ и приняли единогласно.
Тут и Ефима, второго, пригласили за заветные двери. Вернулся тоже быстро. К нему с расспросами, что да как? Ефим охотно стал делиться:
– Спросили, каково же мое социальное происхождение? Понял сразу, куда удочку закидывают. Принял стойку, то есть насторожился. Прямо и выложил: дед, говорю, до революции владел магазином; не таким огромным, как центральный универмаг в Москве, а маленькой-маленькой лавчонкой.
– Ну и что?
– Приняли! Вы знаете, единогласно!
– Да, – тяжко вздохнул третий, Семен, значит, и взъерошил редкую растительность на затылке, – правильнее – говорить правду, – и скрылся за дубовой дверью.
Этот почему-то долго не выходил. Михаил и Ефим вконец изволновались. Появился наконец-таки Семен.
– Меня тоже единогласно, – грустно сказал он и чуть не заплакал, – не приняли.
– Но почему же, почему?!
Семен покачал головой.
– Не знаю. Я сказал им сущую правду. Как и вы, но… Как и вам, задали тот же вопрос: кем, мол, был мой дед до пролетарской революции?
– Ну и что? – Спросил, затаив дыхание, Михаил.
– Уж не ляпнул ли, что был белогвардейцем? – Спросил, покачав головой, Ефим.
– Я ответил: мой дед владел в Пензе бардаком. Ну, не таким большим бардаком, какой царил в Советском Союзе семьдесят лет, а маленьким-маленьким бардачком… И что райкому КПРФ не понравилось в моих словах – ума не приложу.
В самом деле, в правде-то иной раз и скрыто главное коварство.
Утешил
Похлёбкин с Похмелкиным – односельчане, к тому же дома рядом. Соседи, получается. С детства. Заскакивают на минутку друг к другу. Чаще Похмелкин, чем Похлёбкин. Потому что у того потребность возникает каждым субботним утром – традиция.
Вот и сегодня. Только-только Похлёбкин петух оторался, возвещая деревне о наступлении нового дня, как на пороге – он, Похмелкин, стало быть.
– Привет, соседушко! – излишне бодро выкрикнул Похмелкин. Не дождавшись чего-нибудь ответного, прошел вперед, к столу, сел и сложил руки на коленях. Жена Похлёбкина, баба неприветливая к таким гостям, покосилась, хмыкнув, отошла к печи, где неоправданно демонстративно загремела посудой.
В молчании прошло минут пять. Мужики сидели по разные стороны стола и смотрели друг на друга.
Паузу оборвал все-таки гость.
– Вчерась, слышь-ка, всенародный праздник труда был.
– Это, понимаете ли, не повод, – по-свойски проворчал хозяин, – по утрам шляться.
– Радуйся, слышь-ка, соседушко…
Похлёбкин проворчал.
– Радости, понимаете ли, полные штаны.
– Радуйся, слышь-ка, соседушко, – упрямо повторил Похмелкин и закончил присловьем. – Ранний гость, слышь-ка, – до обеда.
– Утешил, понимаете ли… Чего приперся в такую рань-то, а?
– Так… это… Сказал: праздник вчерась, слышь-ка, был.
– Набуздырялся, понимаете ли? – коротко хохотнув, несколько злорадно спросил Похлёбкин.
– И, слышь-ка, хорошо так… Теперь, – он постучал кулаком по башке, – трешшыт-гудыт. Будто тыща чертей шабаш устраивает… Может… Это… Слышь-ка, найдешь чего-нибудь, а?
Похлёбкин отрицательно мотнул головой.
– Э, милый: такое добро, понимаете ли, и у меня надолго не застаивается.
– Да?.. Беда, слышь-ка… Значит, не полечишь? По-суседски…
– Нет.
– Жаль… Ох-хо-хо… А головёнка-то трешшыт… Может, слышь-ка, плеснешь хоша бы капустного рассольчика? Хороший у тебя рассольчик… лечебный…
– Тыщу раз говорил: наваристая и густая, на мясном бульоне похлёбка – вернейшее, понимаете ли, средство борьбы с главным мужицким недугом. Выхлебаешь чашку – как рукой снимет. Может, налить?
Похмелкин резко отрицательно замотал головой.
– Не хочу! Не надо! Дай лучше рассольчика и поболе.
Похлёбкин принес полнёхонький литровый ковш и поставил перед гостем. Тот дрожащими руками схватил и одним махом выпил. Облизнувшись, крепко крякнув, встал.
– Хо-ро-шо!.. Я, слышь-ка, пойду, что ли… Баба, пожалуй, обыскалась.
– Иди с Богом. Но насчет похлёбки все-таки подумай, понимаете ли… Не в пример полезнее.
Чувак-эsэмэsник
12.56. Начало Его очередного утомительного дня.
Не успел как следует продрать шары и по-настоящему стряхнуть с себя сонливость, а рука долговязого и белобрысого любимца маменьки автоматом уже тянется в сторону прикроватной тумбочки, где лежит скучающий без работы навороченный смартфон, подарок на его недавние именины, подарок динозавров-предков.
Чувак-Димка набивает эсэмэску: «Привет. Как. Классно оторвались». Отправляет. Ждет. Получает ответную эсэмэску от своей чувихи-Ритуськи: «Круто». Он: «Повторим». Снова отправляет.
Это его решение или предложение? Скорее, второе. Почему нет вопросительного знака? Объясню: Димка слывет среди своих грамотеем и про существование восклицательных, вопросительных и прочих знаков знает, но, когда эсэмэсит, ленится и не выбирает, поэтому ограничивается лишь точками. Другие (та же Ритуська не заморачивается) не опускаются и до такой малости, как точки. Понимают друг друга и этого, считают, достаточно.
Через минуту приходит ответ: «Без проблем Где и когда». Димка отвечает: «Вечером проэсэмэсю». Ритуська присылает: «Заметано».
Всё также лёжа в кровати врастяжку и перебирая пальцами ног, сначала Димка долго эсэмэсит с дружком, потом доходит и, как он говорит, до мамуси. Набивает: «Мамусь. Не забудь про скорую сессию. Со мной все в порядке. По ночам оттягиваюсь по полной».
Отэсэмэсившись, Димка неохотно сползает с кровати, долго зевает, потягивается и упёрто смотрит на будильник. Чем сейчас забита его башка? Про занятия в универе, где он уже на четвертом курсе, вспомнил и куда проспал? Вот еще! Не болит голова у дятла: мамусик прилетит, порешает его проблемы с проректором и «уды», как минимум, в зачётке появятся. А больше ему без надобности. А диплом? Не красный, но будет… Какие проблемы?
14.28. Разгар Его столь напряженного дня.
Димка сидит в кафешке, что неподалёку от его «берлоги». С пристрастием, поэтому медленно, изучает меню. Потом подзывает официантку.
– Ты… это… ну… форель заливную, суп-харчо по-кавказски, отбивную из телятины, кувшин пива.
– Простите, – напоминает официантка, – котлету придется подождать… минут сорок.
– Без вопросов… Спешить мне некуда: вся жизнь – впереди.
Димка попытался шлепнуть официантку по аппетитной заднице, но та успевает увернуться.
Сидит, потягивая пивко, и эсэмэсит между блюдами.
21. 47. Закат Его трудного дня.
В руках – любимец-смартфон. Чувак набивает своей чувихе: «Приветик. Еду на своей тачке. Через пять минут буду». Получает ответное сообщение: «Куда едем». Димка эсэмэсит: «В ночнушку. У озера». Что в переводе означает: «В ночной клуб «У озера». Ритуська: «Не потрахаться ли перед тем как». Димка проэсэмэсил в ответ: «На обратном пути. Встанем на подзарядку». Ритуська тотчас же эсэмэсит: «А если до и после». Димка охлаждает разгорячившуюся чувиху: «Многого захотела. Мозоли набьем».
…Завтра будет другой день, ничем не отличающийся от сегодняшнего. Послезавтра – тоже… И вся последующая жизнь Димки-эсэмэсника и его чувихи-Ритуськи.
Свидание с прошлым
И вот, спустя годы, за которые много воды утекло, я заглянул в поселок городского типа… В тот самый, из которого некогда, сломя голову, утёк. Сбежал, потому что стал задыхаться от удушливой провинциальной атмосферы, задыхаться от дефицита интеллектуальной жизни, точнее – от ее полнейшего отсутствия. Тогда еще был молод и всерьез опасался, что, погрузившись в болото духовного опустошения, утону в нем с головой, стану, как всё, что окружает меня: нажираться по вечерам, как свинья, приползать домой чуть-чуть тепленьким, в порыве скуки драться с женой или перемывать косточки кому-либо из соседей.
…Электричка, заскрежетав, стала сбавлять скорость и остановилась. Вышел на перрон. Он, как и тогда, много лет назад, в колдобинах. Вошел в здание вокзала, построенного еще до февральской революции семнадцатого года и не видевшего с той поры капитального ремонта. Огляделся. Все, как прежде: обшарпанные, с надписями диванчики, слева полупустой киоск, торгующий печатной продукцией, а справа, как и тогда, буфет с черствыми пирожками и пивом недельной свежести; под ногами шуршат обертки от конфет, которыми усеян пол зала ожидания. Вышел на привокзальную площадь. Осмотревшись, убедился: и здесь все, как встарь. На грязных ступенях крыльца трое забулдыг роются в карманах, пробуя отыскать хоть какую-то мелочь на стакан бормотухи, которой в достатке в железнодорожном ресторане, занимающем по-прежнему правое крыло вокзала.
Содрогнувшись, подумал: «А ведь я мог быть одним из них».
Проехал «ПАЗик», оставляя за собой всё ту же серую пелену пыли, всё также страдая от ветхости, а потому и скрежеща, будто жалуясь и плача, всеми частями кузова.
Застывшая мертвечина – везде и во всем. Бури, пронесшиеся над Россией, не затронули пьяную провинцию. Поселенцы, похоже, свыклись, срослись с такой жизнью и о другой даже не думают: им больше по нраву такое скотское существование, в котором вся жизнь делится на отрезки – от одного стакана какой-нибудь гадости и до другого стакана или аптечного «фуфырика».
Ужас!..
Вздохнув, пошел от вокзала в сторону видневшихся брусчатых, почерневших от непогоды восьмиквартирных домов. В одном из них, на втором этаже проживал когда-то мой приятель. Живет ли ныне? Может, на кладбище обосновался? Сколько, дай Бог памяти, ему? На двадцать два года старше… Значит? Восемьдесят с гаком. Провинциальный мужик столь долго нынче не живет. Пожалуй, не увижу.
Приятель – интеллигент. По местным меркам, разумеется. У него – сокровище-библиотека. Представлена вся русская и зарубежная классика. Но предмет особой его гордости (во всяком случае, так было в давние годы) – издания, которые, так или иначе, касаются Пушкина. Впрочем, не только: собирал марки, значки, открытки, картины, посвященные поэту. Иначе говоря, заядлый пушкинист.
Вот этот дом. Во дворе, пыльном и почти безжизненном, на лавчонке одиноко сидит старушка. Узрев незнакомца, прикрыв ладонью глаза, как козырьком, стала пристально и с любопытством разглядывать.
Подошел. Поздоровался. Из-под лавки выползло лохматое, в репейнике существо и, оскалившись, заворчало на меня. Старушка молча двинула собаку ногой и та тут же, не ожидая следующего пинка, повизгивая, нет, не от боли, а от обиды, спряталась под лавкой.
– Когда-то в этом доме жила семья Лавреневых… Живут ли сейчас? – спросил я у старушки.
– Куда денутся, – кивнув, откликнулась старушка, – живут… Сама-то бойкенькая еще, по магазинам летает так, что мне и не угнаться… Сам-то редко выходит на улку… Будто, ноги пошаливают… Укатали Сивку крутые горки… Да… А был орёликом… Бывало, ни одной девки не пропустит: всё норовит под подол залезть.
– У них еще дочь была…
– Есть… Да-да… Не с ними она… То ли в Сочи, то ли в Одессе живет… Замужняя… Навещает родителей… Редко… Были сами-то помоложе, ездили каждое лето к дочери. А теперь… Куда уж?! Присмирели оба… Из дома – никуда.
Я спросил:
– Выходит, дома Лавреневы?
– Она-то – нет. Минут двадцать, как улепетнула. За продуктами, пожалуй, потому как с кошёлкой. Дениска? Выходит, дома, – поблекшие глаза старушки вновь уставились на меня. – В гости, что ли? – я кивнул в ответ. – Кажись, не из наших… Издалёка ли?
– Из Екатеринбурга, – ответил я и усмехнулся: не могла старушка, рассказав все о Лавреневых, не повыспрашивать и у меня.
– Из Свердловска, если по-нашему, – она закивала. – Ясненько… Понятненько… Не из наших ли будешь, а?
Я отрицательно мотнул головой.
– Нет… Но несколько лет жил…
– А-а-а, – протянула старушка. – Не вместе ли с Дениской работал?
– Вместе. Правда, недолго.
– Ну-ну-ну… То-то, гляжу, и вроде как признаю… Видала… Признаю… Помню…
Опять подивился памятливости поселковых. Заметив, что нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу, старушка пришла на выручку.
– Иди-иди… Порадуй Дениску… Примет… Оно, конечно, не так, как прежде… Тогда-то о-го-го, как гулял: дым коромыслом и на неделю… бывало… Ныне… Куда там?.. Только – чай, да-да, исключительно чай… Свое Дениска уже выпил.
Не сумев скрыть удивления, спросил:
– Не потребляет? Нет-нет?
– Ни в рот! Ни маковой росинки!
Я улыбнулся.
– Тогда – обойдемся и чаем.
– Да уж придется… А меня, неужто, не признал?
– Нет, – честно признался я. – Разве встречались?
– Как же!.. Я вспомнила… В один день даже сильно полаялись. Помнишь? Нет?
– Нет, – опять был вынужден признаться.
– Дырявая, гляжу, у тебя башка, честно сказать, никуда негодная. А я – помню. Критику навел, ну а я – взбеленилась. Прибежала в редакцию и с порога спустила на тебя всех собак… Отвела душу и угомонилась сразу.
Я в нерешительности заметил:
– Не помню, чтобы я с кем-то лаялся.
– Ясное дело, – старушка кивнула, – ты молчал. Это ведь я в прежние времена любила пособачиться… А статейку ту храню: какая-никакая, а все-таки память. Той-то газеты нет… Сейчас – «Вести». В Москве – свои «Вести», у нас – свои. Все, как в столице, – старушка коротко хохотнула, – только дома пониже да асфальт пожиже.
Я зачем-то спросил:
– А телевизор хоть показывает? Или, как в прежние времена, одни силуэты?
Старушка, поджав губы, серьезно ответила:
– Одинаково.
– Трудно смотреть, – посочувствовал я.
– Пообвыкли. У кого – «тарелки», получше кажет.
– И понимаете, что показывают?
– Как же… Понимаем… Где глазами, а где догадкой.
Я вошел в подъезд дома. Поднялся по шатким и скрипучим деревянным ступеням на второй этаж. Вот и дверь квартиры №8. Все тот же дерматин, которым обита дверь, все та же большая круглая кнопка звонка. Нажал один раз, а потом и второй.
– Кто такой торопливый? – услышал я сначала знакомый (кажется, совсем не изменился с годами) голос, а потом и шаркающие шаги хозяина.
Дверь открылась, и я увидел Дениса. Он сильно изменился: передо мной стоял сморщенный и сгорбившийся старичок, под глазами – синюшные мешки, свидетельствующие о проблемах с печенью.
– Ты?! Откуда? Не с неба ли?.. Ну, проходи, – прикрывая за мной дверь, заметил. – Давненько… Очень-очень давно глаз не казал… Понятно, – он не упустил возможности съехидничать. – Мы – кто? Провинция! А вы там? Столичные… Крутые и продвинутые… Мы же… Темень-темнота.
Снимая пиджак и вешая на деревянный крючок, сохранившийся с древних пор, я возразил:
– Не прибедняйся, Денис… Все ёрничаешь, да?
– Проходи в гостиную, а я чай поставлю.
Хозяин медленно и осторожно зашаркал в сторону крохотной кухоньки и стал шебаршить посудой.
И вот на круглом и стареньком, как и сам хозяин, деревянном столе – пыхтящий паром чайник, сахар, домашнее печенье. Сидим напротив друг друга и вспоминаем. После второй чашки Денис, разглядывая меня, заметил:
– А тоже постарел, – и закачал седенькой головой.
– От этого – никуда, – сказал, усмехнувшись, я и стал размешивать в чашке комки сахара, Потом, кивнув на стеллажи, занимающие две стены снизу доверху, добавил. – Сохранил. Я боялся, что…