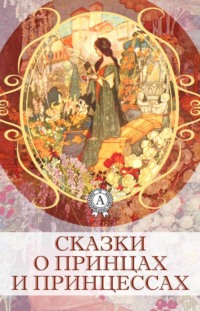Полная версия
Литература в зеркале медиа. Часть II
Или:
«хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет… Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних…»41.
Тут словно смыкаются особенности текстов изящной словесности, грезящих о величии грядущего «счастливого общественного устройства» и соответствующей ему «музыке будущего», – и воспаленные пассажи музыковеда Арсения Авраамова – мечтателя, исследователя также в области микроинтервалики, чьи терминологические и теоретические поиски шли параллельно четвертьтоновым открытиям других русских новаторов – Ивана Вышеградского, Николая Обухова; их предваряли утопические идеи Артура Лурье о музыке «четвертичных тонов»42.
В реальности бурной художественной жизни первых послереволюционных лет это совмещалось с яростным отрицанием темперированной музыки прошлого (похоже, ее сочли жесткой социальной регламентацией в мире звуков), вплоть до поданного Луначарскому – в том же, что и создание антиутопии «Мы», 1920 году – предложения Авраамова: просто «сжечь все рояли». Ведь рояль является итогом борьбы за темперированный музыкальный строй, он – «король» инструментов, спутник буржуазного и дворянского быта и, согласно целям социальной борьбы, потому должен подлежать полному уничтожению! Да и сама деструкция дивных звуков и гармоничных сонорных миров прошедших эпох, заметим, буквально воплощает пафос утопического манифеста. Ведь недаром в переводе А. Коцем стихов песни «Интернационал» этот символ сражающегося с остальным миром пролетариата (и ставшего гимном РСФСР и СССР), поющие клянутся осуществить тотальное уничтожение прежнего мира – как мира насилья:
«Весь мир насилья мы разрушим / до основанья, а затем / мы наш, мы новый мир построим. / Кто был никем – тот станет всем!»
Об этом плане экстремиста Арсения Авраамова (под псевдонимом «Реварсавр»)43 сожжения роялей вспоминал, преображая реальность в обозначенном им жанре «иронической фантастики», писатель, друг и «черный гений» Есенина, Анатолий Мариенгоф. По его описанию А. В. Луначарский на проект Авраамова осторожно заметил:
«…доложу о вашем предложении товарищу Ленину… не очень уверен, что он даст согласие на ваш гениальный проект. Владимир Ильич, видите ли, любит скрипку, рояль…»,
Ему возражал увлеченный деструктивными планами Реварсавр:
«Рояль, эта интернациональная балалайка! – Перебил возмущенный композитор. – Эту балалайку с педалями… я уж, во всяком случае, перестрою» (…) Потом слушали с Есениным и прочими вещи, написанные Авраамовым для специально перестроенного им рояля…».44
Тут уместно небольшое отступление. Наверняка таланты-пророки предчувствуют, ощущают, предваряют опасность, реально нависающую над тем, что ими любимо. И в том числе над всем тем, что и воплощает мир роялей («фортепианы вечерком»), озлобленно трактуемый большевиками как мещанский, даже враждебный. Потому, возможно, и Михаил Булгаков с таким упоением воссоздавал в своих произведениях некие ниши духовного уюта. Таковы упоительные булгаковские сцены у освещенного чудной лампой рояля или пианино с нотами на пюпитре со звуками из прекрасного «прежнего времени»: из опер «Аида», «Фауст», со вспышками светлой праздничности в вальсе и ликующей тожественности маршей, без революционной оголтелости и механистичности.
Вспомним образ радио и у этого писателя. Когда Хлебников в своих прозрениях будущего средства реализации утопии утверждал, что:
«…малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания» (см. ранее),
– он не ошибался. Это «наркотическую» функцию радио как диктатора и своего рода гальванизатора (о чем подробнее – в нашей статье о «музыкальной гальванизации социального оптимизма»45) усматриваем и в кратком выразительном намеке из не представленной тогда на сцене, фактически запрещенной пьесы Булгакова «Адам и Ева».
В этой пьесе о мировом катаклизме с участием молодой и наивной советской пары, – как первые, по Библии, люди, – с самого начала весьма важна авторская ремарка. Ремарка эта свидетельствует о контрастах сонорной атмосферы нового и старого, о важных для дальнейшего действия вещественных атрибутах на сцене и гласит, что там:
«…заметен громкоговоритель, из которого течет звучно и мягко „Фауст“ из Мариинского театра. Во дворе изредка слышна гармоника»46.
Однако трансляция романтической оперы из Мариинского театра (внимая которой герой пьесы Адам возмущается, что не может «быть в кухне», когда «Фауст» по радио идет»! ) неожиданно переходит в иные звучания.
Радио, как символ «верхних сил», «голоса государства», меняет свои репертуарные, «звучные и мягкие», – а главное, идеологические и этические преференции. И они словно услышаны писателем из ближайшего будущего, в авторской ремарке:
«В громкоговорителе мощные хоры с оркестром поют: «Родины славу не посрамим!»
Но и эта стадия преображения радио переходит в иную: звуковое состояние разрушения, «военного положения». Эдем – милый, уютный рай для любящих, Адама и Евы – исчезает, хотя не они «изгнаны» из этого рая, а рай изгнан из всего мира, ибо:
«… Музыка в громкоговорителе разваливается. Слышен тяжкий гул голосов,
но он сейчас же прекращается. Настает полное молчание всюду.
…В громкоговорителе начинается военный марш»47.
Конечно, такие сонорные признаки сопутствуют серьезным катаклизмам. А их отображение в пьесе происходит в основном с помощью изменения динамического графика и содержания звуков радио:
«Ева (заплакав). Опять! Опять! Это – смерть клочьями летает в мире и то кричит на неизвестных языках, то звучит как музыка!
…Адам. Москва молчит!
Ева. И мы слышим только обрывки музыки и несвязные слова на разных языках!
Воюют во всех странах. Между собой».48
Так аудио-послания из громкоговорителя становятся предвестниками и главными информаторами о мировой катастрофе, а может, даже о конце света. Апокалипсическую атмосферу театрального действия создает именно радио. Оно воплощает также и образ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ в состоянии разрушения, в ходе свершающейся антиутопии. Потому хаос – истинный «сумбур вместо музыки» в эфире, красноречивее иных описаний и сценических действий – говорит о свершающейся трагедии.
Хотя этот литературный текст мог испытать влияние идей «восстания механизмов», уже ярко намеченных в пьесе К. Чапека «РУР» (1924) и в романе-катастрофе «Бунт машин» по этой пьесе, Михаил Булгаков писал свой фантастический опус «Адам и Ева» – о будущей войне или грядущем конце мира – с июня по 22 августа 1931 года, когда, казалось, внешней угрозы отечеству не было. И даже если в варианте этой пьесы, свершающийся кошмар оказался мороком и действие мирно возвращалось в квартиру супругов, весьма характерно тревожное предощущение писателем близких глобальных и катастрофических разрушений. Потому не случайна, а весьма показательна значительная роль радио в этом бессознательно-сознательном процессе, участие этого медиа в формировании страшного мира АНТИУТОПИИ49.
***
Когда первейшей задачей было «прежний мир разрушим», то построение нового на опустошенной, выжженной, пустынной земле, оказалось значительно более трудным делом. Аллегорически выражаем эту простую мысль на примере пространственной модели: приходилось бесплотно «воспарить» в подвешенное на ненужном столбе звуковое громыхание радиорупора, диктующее и парящее «над» реальными страданиями и чаяниями отдельных людей. Или – уходить «под землю», пытаясь вырыть прибежище – или могилу – человеку-личности, «сокровенному человеку». В подобной геометрически-пространственной схеме естественно заметить то важное место, которое в своих думах и литературных пейзажах Андрей Платонов уделяет радиодинамику.
Здесь по-новому обратимся к дуэту «радио и деревня», так апологетически-слащаво услышанному М. Исаковским в его «Радиомосте». Этот поэт декларировал свое «родство с деревней», однако в его строках снисходительно и с некоторой брезгливостью зафиксировано, как при радиозвуках «невидимых скрипок», смиренно расцвели «корявые улыбки» на «корявых лицах» собравшихся крестьян, осчастливленных подобно диким животным, которые получили желанную еду.
Иначе видит, точнее понимает и отображает созвучие в названном «дуэте», Андрей Платонов. Прогрессирующая разруха, распространяющийся советский абсурд разрушения нормальной жизни, гибнущее ради бессмысленных измышлений городской цивилизации крестьянское население, попытки близкого к родной земле человека сохранить нечто человеческое, и над всем тоталитарный голос радио, – весь этот густой трагический замес вязкой горечью наполняет гениальные послания писателя.
В конце 1920-х годов в его «Записных книжках» появилась чеканная формула:
«…колхозы живут, возбуждаясь радиомузыкой: сломался громкоговоритель – конец»50.
Параллельно с разочарованием даже тех, кто искренне был увлечен жаром революции и восторженно приветствовал технические новации словно «достижения революции», наступало все большее осознание реальности. Практика радиовещания в СССР не соответствовала утопическим мечтаниям о нем как о панацее радостного соединения человечества в едином духовном порыве, как о безошибочном, спасительном глобальном инструменте новой массовой коммуникации. Зато радио пригодилось как увещевающий, диктующий голос, дабы совершать указания верхов. Например, по словам Сталина, направлять население на то, чтобы, по словам того же вождя, осуществить «прыжок» от аграрной страны к индустриальной державе.
В великом опусе 1930 года «Котлован» Платонов отобразил свой образ радио. Оно угрюмо навязывает бесконечно усталым от труда людям, на пределе сил роющим основание для «общего дома пролетариата», свои бессмысленные доктрины. Это доктрины эпохи социализма, который, следуя высказыванию персонажа «Котлована», «обойдется без вас, а вы без него помрете зря…».
Чтобы приобщиться к общепринятым догмам и поддержать энтузиазм полумертвых от напряжения землекопов, в романе «наиболее сознательный рабочий Сафронов» предлагает установить в бараке радио:
«А что, товарищи, – сказал однажды Сафронов, – не поставить ли нам радио для заслушанья достижений и директив? У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!
– Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио, – возразил Жачев»51.
Обычные труженики молчали; лишь из уст Жачева, безногого, убогого инвалида, вырвалась естественная реакция отторжения «механизма» в пользу бесприютного ребенка; потом девочка Настя побудет некоторое время с бригадой. Когда же
«…товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы»,
…оттуда стали раздаваться ежеминутные требования в виде лозунгов – вопиюще абсурдные в содержательной плоти романа: о необходимости сбора крапивы, обрезания хвостов и грив у лошадей. Симптоматично, что самый «активный» из землекопов Сафронов слушает звуки из громкоговорителя и жалеет, что он не может говорить обратно в трубу, чтобы там все узнали о его чувстве активности. А Вощев и инвалид стыдятся долгих, бессмысленных речей по радио, и Жачев кричит: «Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!» Наслушавшись радио, бессонный Сафронов смотрит на спящих людей и с горестью высказывается о полумертвых от тяжкой работы землекопах, которых даже радиопризывы не возбудили к неустанному, непрерывному труду:
«Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!»
В дальнейшем тексте выделим линию, где в сказовой манере Платонов повествует о формировании некоей зависимости замученных людей, которые заворожено, под «наркозом» радио, словно зомби, танцевали – точнее, «радостно топтались» под звуки из громкоговорителя:
«И вдруг радио среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал:
«– Стой до очередного звука!»
Когда сломавшийся громкоговоритель молчал, возникало смятение. Однако, пока удалось, в краткое время, поправить радио, сначала они замерли, так как…
«…оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.
«– Слушайте сообщения: заготовляйте ивовое корье!.. (…)
«С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства.
Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио, и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. (…)»52
«Омытые» и «радостно топчущиеся» колхозные работяги от магии рупора впали в некое беспамятство, оттого и стали «светлы лицом». Мнимое «просветление» и «омовение» произошло от отсекания памяти: ведь строевые радиомарши посеяли в мужицких душах безжалостность, забвение, холод и «душевную пустоту». Прозорливо отмечено писателем возбуждение «ржущего» развлекательства как ложное оживление «пассивных», – вновь определяем его как своего рода «музыкальную гальванизацию социального оптимизма»53, – возникавшее благодаря постоянным звуковым и ритмизующим сигналам радио:
«Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольства, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать» (…)54
Остановки в работе радио возвращают память и совесть тружеников к насущным людским проблемам, а включения его – отвлекают от этого четкими приказами, дают забвение и утешение. Потому, когда оно
«…опять прекратилось, (…) Прушевский снова начал чинить радио, и прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась работа, потому что он не был уверен, предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос…»55
Приютив сироту Настю и радуясь ей,
«…вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио».
Живое человеческое участие на время нейтрализует гипноз радиорупора и избавляет людей от необходимости «дозы» исходящих из него роботоподобных звуков и приказов. Однако постепенно труженики теряют чувство сопротивления радиоголосам: оставшиеся на Оргдворе маршируют на месте под звуки радио, потом пляшут, приветствуя приход колхозной жизни». И так как, забыв о маленькой Насте, о нормальных людских заботах, склонившись перед силой углупления, —
«каждый, нагнув голову, беспрерывно думает о сплошной коллективизации»,
– то пригретая милая девочка, без помощи и пищи, умирает. И, думается, недаром ей роют глубокую могилу, настолько глубоко, —
«…чтобы туда не доносились звуки с поверхности земли»56.
Можно представить тут те навязчивые, лживые звуки громкоговорителя, которые отвлекли сострадание превращавшихся в роботов землекопов от ребенка, развернули сознание людей от прежних сердечности, гуманизма – к мыслям «о сплошной коллективизации». Для тех же, кто впал в зависимость от радиозвучаний, из рупора неслись конкретные в своей бессмысленности практические задания, сколь бы бессмысленными, абсурдными они не казались:
«– Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы…
– Товарищи, мы должны, – ежеминутно произносила требование труба, – обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..
…Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова».57
Акцентируем провидческое платоновское описание – и, одновременно, скорее символизацию в «Котловане» – важной динамики постепенного изменения отношений советского радио как инструмента власти и слушающей его массы.
Быстро привыкнув, что ими руководит радио, землекопы, как впоследствии большинство населения страны под тоталитарным режимом, предпочитали «отдаться» мнимости радиореальности и безропотно помалкивать. Самый же «активный» и честолюбивый из них пытался заменить собой радио. Устремляясь к власти помимо «линии власти», он принялся «умствовать», изрекая свои лозунги борьбы с классовыми врагами, что приведет его к скорой смерти:
«Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:
– Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!»58
Образ радио – активного, мнимо позитивного, благополучного, но безответного и бессмысленного для жизни потока – встречаем также и в киносценарии Андрея Платонова для неосуществленного фильма «Воодушевление».
Исследователь «неснятого кино» по текстам писателя так описывает тему и проблему: «Это голос общей жизни, которая плевать хотела на частную. Но радио… всегда невпопад, всегда не к месту (…) В „Воодушевлении“ автор использует этот радиоабсурд для одной из самых напряженных сцен. Арфа все ждет и ждет мужа, она физически не может больше выносить одиночество – и включает радио: „Ну, скажи мне что-нибудь“. Сначала радио говорит: „А вот, товарищи, гражданин Подсекайло, Иван Миронович, спрашивает нас, где достать куб для горячей воды, – мы отвечаем ему…“ Арфа пытается сопротивляться: „Ты не то говоришь“. Но радио упорствует в своем безжалостном равнодушии: „Кенаф, клещевина, соя, кендырь, куяк-суюк“… Арфа переключает, но радио – сильнее: „А сейчас оркестр деревянных инструментов исполнит совхозную симфонию на дровах“ – и раздается несколько глухих, мрачных звуков вступления в эту симфонию. Резким контрастом сверху звучит гармоника, и Арфа понимает: радио ей чужое, враждебное; только это „Скучно мне, скучно!“ – про нее. Она резким движением выключает радио, без сил опускается в слезах на пол – и тут открывается без стука дверь и входит ее муж»59.
Итак, для Платонова в феномене радио олицетворена сила античеловеческая, лишь имитирующая осмысленные высказывания, не столько некая «бессердечная природа», сколько ложная, зловещая и мнимая реальность. В его текстах звуки радио, как голоса из иного мира, в «своем безжалостном равнодушии» не обращают внимания на человека – оно даже враждебно ему. Сонорный поток этого медиа никак не контактирует с теми чувствами, которые испытывает платоновская героиня. Лишь подчеркивая, усиливая ее одиночество своим безлюбым контрапунктом, он несет, продуцирует и умножает абсурд существования как некую параллельную действительность.
Мир радио у Платонова предстает воплощением свершающейся антиутопии, ужаса «воцарения Машины», механического, бесчеловечного «Гласа свыше», участвующего в погибели крестьянской Руси.
Конечно, затрагивая эту тему, писатели не могли не видеть в ней более общей проблемы: взаимоотношения природной среды и научно-технической революции, людей и технического прогресса, естественного и искусственного, вплоть до насильственности, изменения Земли и человечества. А когда о том размышляли в 1920—1930-е годы, главной моделью оппозиции «натуре» чаще выбирали радио.
Значительно позднее, уже долгие годы зная практику вещания в СССР, заметим негативное отношение к советскому радио и всему вышеназванному комплексу у представителей отечественной «деревенской школы» литераторов, как В. Белова.
Опережая их, А. И. Солженицын отрицательно высказывался о том в публицистике и художественной прозе. Устами персонажа из романа «Раковый корпус» писатель выразил и свою позицию: «Первый враг, которого он ждал себе в палате, – было радио, громкоговоритель»60.
Орущее «радио со всех сторон»61 мешало побыть в тишине и молчании, со своими мыслями. Писатель (признававшийся, что часто слушает немецкое радио) не раз обращался к этой теме в своей прозе и в публицистике; приведем наиболее обстоятельное его объяснение:
«Обязательное громковещание, почему-то зачтенное у нас повсюду как признак широты, культуры, есть, напротив, признак культурной отсталости, поощрение умственной лени… Это постоянное бубнение, чередование незапрошенной тобою информации и невыбранной тобою музыки, было воровство времени и энтропия духа, очень удобно для вялых людей, непереносимо для инициативных. Глупец, заполучив вечность, вероятно не мог бы протянуть ее иначе, как только слушая радио…»62.
У Солженицына – писателя, выросшего со звуками радио, – оно являет собой олицетворение бескультурья и насилья, от государства идущей лжи эпохи. Именно таким оно предстает начиная с его ранних текстов. По Солженицыну, радио особенно вредит деревне: «в каждой избе радио галдит, проводное» (Один день Ивана Денисовича); «Завывание радиол, бубны громкоговорителей» (Дыхание); «Попов, изобретая радио, думал ли, что готовит всеобщую болоболку, громкоговорящую пытку для мыслящих одиночек» (В круге первом); «Над дверьми клуба будет надрываться радиола» (Матренин двор).
Отказ от восприятия советского радио есть первый диссидентский жест; так и рассказчик в «Матренином дворе» не хочет слушать идущее из громкоговорителя, не желает погружаться во все то, что навязывает массе людей по всей России государство, которое исковеркало его жизнь.
Но это – уже рефлексия родившегося после революции писателя по поводу долгого функционирования государством контролируемого аудиосредства. Суть же такого отношения, прозорливо, жестко, со всей суровой правдой беспощадного таланта были на заре вещания отображены Андреем Платоновым.
***
Вернувшись в начало-середину 30-х годов, услышим иные смысловые оттенки в образах, связанных с радиовещанием у Осипа Мандельштама.
Согласно частотному словарю поэзии Мандельштама, слово «радио» упоминается во всем массиве его текстов девять раз (не считая упоминаний «радиопрограмма, радиокомитет, радиокомпозиция», наушники…)63. Эта реалия, судя по письмам поэта, составляла немаловажную часть его быта, особенно в ссылке, и казалась ему некой сонорной волшебной призмой, связанной в его поэтическом мире с выходом в иную – невозможную и чудесную реальность, представляемую художником по звуковой картине радиотрансляций.
Так, в рецензии поэта на сборник «Восток» Григория Санникова (стихи и поэмы 1925—1934 годов), одушевляемый и идеализируемый Мандельштамом образ радио, являет красочный, «певучий» антипод унизительной прозе жизни:
«В этих стихах 1926—27 года стучат машины океанских пароходов, волчьей шкурой сереет вздыбленная вода. Радио трубит в ответ стонущим путешественникам фокстроты, шимми и чарльстоны. (…) Жалкая, постыдная жизнь и певучие сказочные узорные ковры».64
Иное упоминание радио встречаем в статье Мандельштама «Магазин дешевых кукол». Там данное медиа возникает как представитель «другого мира» – не столько конкретных звуков «заграницы», сколько обобщенным источником мечтаний, мифопоэтическим комплексом «дальней, блаженной страны», связанным с магической техникой будущего и прелестью естественных звучаний прошлого:
«А есть другой мир, куда профсоюзника в толстовке и на порог не пустят. Вот извольте надеть наушнички радио, послушать, как пчелкой гудит гавайская гитара… „Из страны блаженной, незнакомой, дальней слышно пенье петуха“. Петуха фирмы Пате и К»65.
Для радио поэт обратился к особому типу художественного текста, где выписана не только драматургия пьесы, но самим автором намечено также и конкретное ее музыкально-шумовое оформление; это радиокомпозиция «Молодость Гете».66
Характер отношений Мандельштама с радио совершенно не такой, как у всех предыдущих литераторов. Но отметим, это происходит не только и не столько из-за особенностей его творческого воображения. Ибо, отдаленный волей государства от многих близких людей, поэт слушает радио не по общему громкоговорителю, а в наушниках. В чем же тут разница?
Оно говорит, звучит, в таком случае, словно только для одного слушателя, нашептывая, надиктовывая новости, наигрывая музыку ему в ухо, провоцируя слуховую и зрительную фантазию. Характерно, что поэт прозревает и воспевает эту будущую масштабную кентавричность техники и человека, когда близко к телу, почти сливаясь с ним, лишь для тебя, отделяя от окружающего, звучит для нас в ушах техническое средство. То могут быть звучания радио и впоследствии записи избранной нами музыки или аудиокниги…