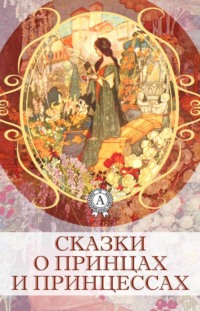Полная версия
Литература в зеркале медиа. Часть II
Вышеназванное объединялось в звукомузыкальных концептах и посланиях «навстречу» новорожденному радио. Потому программным представляется суровый и масштабный образ радиозвучаний как воображаемой сонористики будущего в «Ордере 6» поэмы Алексея Гастева «Пачка ордеров» (Рига, 1921), где метафорически дана картина (не) возможных мировых соотношений и созвучий и где дирижером («капельмейстером») выступает само новое средство массовой коммуникации:
«Азия – вся на ноте ре.Америка – аккордом выше.Африка – си-бемоль.Радиокапельмейстер.Цикловиолончель – соло.По сорока башням – смычком.Оркестр по экватору.Симфонии по параллели 7.Хоры по меридиану 6.Электроструны к земному центру.Продержать шар земли в музыке / четыре времени года.Звучать по орбите / 4 месяца пианиссимо.Сделать четыре минуты вулкано-фортиссимо.Оборвать на неделю.Грянуть в вулкано-фортиссимо-кресчендо:Держать на вулкано-полгода.Спускать до нуля.Свернуть оркестраду»21.Ныне кажется: стиль Гастева близок раннему языку футуристов, будитлян, и предвещает Маяковского, однако напомним, что «Пачка ордеров» написана до 1920 года.
Маяковский же, с его тонким слухам к звучанию современности, грандиозностью прозрений о будущем и в то же время конструктивистской «практичностью» применения мечтаний «в интересах пролетариата», по-своему отобразил нашу тему. Первого певца революции – возможно, следуя Хлебникову, – завораживало радио: его роль в политической борьбе и новой действительности. С середины 1920-х годов этот вид медиа активно отображается, звучит в его тестах и как метафора, и как реальность.
Стоит целиком привести написанное в 1925 году стихотворение Маяковского с говорящим названием «Радио-агитатор». В нем соединены утопические представления поэта о сверхчеловеке и подвластном людям, с изобретением радио, преодолении пространственной дали и временных законов; причем «агитация» здесь не «просоветская», вовсе не идеологического свойства, а шире и величественнее:
«Пределачеловечеству нет.И то,что – казалось – утопия,в пустякиз нескольких летпо миру шагает,топая.Была льнебывалей мечта!Сказать,так развесили б уши!Как можно в Москвечитать,а из Архангельскаслушать!А нынчеот вечных ночейдо стран,где солнце без тени,в мильонушей слухачейвлезаютслова по антенне!Сегодня нетни времен, ни пространств,не то чтолюдской голос —передадимза сотню страни какшевелится волос!А, может быть,и такоемыуслышим по воздухускоро:рабочийАмерики и Чухломыспоютсяодним хором.Чтоб шлискорейвека без оков,чтоб близиласьэта дата —бубнимиллиономсвоих языков,радио-агитатор!»22Поразителен масштаб мечтаний, предвидений поэта – в 1925 году, когда круг деятельности отечественного радио, хотя оно уже имело возможность известить всю страну о смерти Ленина и Фрунзе, был еще очень узок. А Маяковский предвидит не только радиопропаганду литературных произведений по радио, не только ставшее реальным лишь много десятилетий спустя «музицирование через континенты», но и объединение всего человечества единым информационным полем!
Однако всего годом позже ситуация стала иной: появились новые декреты об идеологическом контроле искусства и культуры, в том числе и в радиоэфире. И в следующем опусе поэта – сочинении «заказном» – радио уже активно выступает воистину ярым борцом за социальную справедливость, пропагандистом общепринятых ценностей.
Это пьеса-киносценарий, «революционный гротеск в трех картинах» под знаменательным титулом «Радио-октябрь», где третье действие открывается описанием места действия: «Посреди площади – радиобашня». Пьеса написана по заказу Московского театрального издательства в сентябре—октябре 1926 года совместно с О. Бриком, которому принадлежит прозаическая часть идеологически ангажированного текста, а Маяковскому – стихи23. И радиобашня предстает в пьесе важнейшим персонажем (может, скорее годным для реализации в радиопостановке, не в зрительных образах кино?). Сначала банкир старается использовать радио в своих целях, словно пошлое развлечение:
«Явозвелвеличайшее достижение культуры,чтобымогли занятьсяфокстротом».Однако обозначенная персонажем мужского рода радиобашня отвечает на то, что ныне считается законной «рекреативной функцией», «потребностью развлекательности», многозначительным молчанием, от чего дочь банкира раздражена:
«Что он молчит,как рыба зимой?Это не радио,а «великий немой»».Радио же громко призывает «Всем, всем, всем», что не нравится «буржуям», и дочь банкира вздрагивает и затыкает уши. Ужасается и полицмейстер:
«Ну и рот;ну и орет!Прокурор:Такие пилюличересчур железные,нежным организмамне очень полезные».Радиобашня продолжает вещание, уподобляясь трибуну-глашатаю:
«Всем, всем, всем,всем,кто жиреет, рабочих когтя,напоминаем —жив Октябрь.Крестьяне, рабочиефронтом единым —здесьСоветской землигосподином».Таким образом, радио предстает тут не просто «имперсональным персонажем», но неким воплощением ГЛАСА народа, ибо у него происходит «виртуальный», как сказали бы ныне, диалог с другим персонажем – «Тюрьмой», которая ему отвечает:
«Слышим, товарищ, слышим. Этим живем, этим дышим».Тут уж радио вовсю начинает «агитировать», упоминая и причину своего «голошения» – годовщину Революции (в целом, этот опус, созданный явно в «служебных целях», перенасыщен прямолинейной малохудожественной риторикой). Башня призывает весь мир к безжалостной борьбе:
«Других государств угнетенные блузники!Рабы заводов!Правительства узники!Долго ли будетесмирны и кротки?Беритесвоих буржуевза глотки!»И, «глубже вонзая слов острия», вырастая до «Радио-октября», громкоговоритель трибун побеждает «врагов революции» своим железным голосом:
«Рабочийкаждой зажатой земли,сегоднярадиоглотке внемли! (…)Сожжем электричествомжизнь блошиную!Где пальцем царапали —двинем машиною. (…)Будто бы предвещая каждодневное – дважды – звучание по радио Гимна СССР, Маяковский завершает пьесу пением Интернационала:
Пойте, рабочие мира и зала,чтоб всехэта песнясегодня связала!Вставай, проклятьем заклейменный,весь мир голодных и рабов,кипит наш разум возмущенныйи в смертный бой вести готов!.. и т. д. Интернационал». [1926]История этой идеологической поделки говорит о ее грубом идеологическом приспосабливании для «глотателей пустот, читателей газет» (Марина Цветаева). Так, вскоре после создания этого текста к девятилетию революции, пьесу адаптировал журнал «Синяя блуза» для праздника 1 мая24, под названием «Радио-Май», и так ее в 1929 году поставили в Париже на «Польской сцене», затем – в Киеве. Во время войны «Радио-Октябрь» ставился на самодеятельных сценах Польши. Даже в 1957 году, с добавлением фрагментов иных текстов поэта, эта агитка была исполнена студентами ГИТИСа (рук. В. В. Петров) под заглавием «Радио-Фестиваль» к Всемирному фестивалю молодежи.
Уже в 1928 году радио, как тема и как вещный объект новой действительности, точнее, уже материализовавшийся призрак коммунистической утопии, вновь обусловило создание строк Маяковского под симптоматичным заглавием «Рассказ рабочего Павла Катушкина о приобретении одного чемодана». Это уже не прямолинейный ангажированный текст, а талантливое «лиризованное» идеологическое послание с рекламным уклоном, рассказывающее о пользе радиоприемника, написанное с лихостью, остроумием, талантом, свойственными поэту.
Здесь внешне бытоописательное повествование вспыхивает «прорывами», как это присуще поэтике Маяковского, магически завораживающую, с убедительной конкретностью, лиричностью и юмором описываемую псевдореальность рая социализма. Начиная с имитации простонародной речи, прямого обращения к рядовому слушателю, автор детально, сочно живописует процесс установки «радиоточки» и главную составляющую ее содержания, речи вождей:
«Язавелчемоданчик, братцы.Вещь.Заграница, ноздрю утри. (…)Внутрив чемодане —освещенье трехламповое.На фибровой крышке —чертеж-узор,и тот,которыймузыку нахлопывает,репродуктор —типа Дифузор.Лезу на крышу.Сапоги разул.Поставилна крышедва шеста.Протянул антенну,отвел грозу…Словом —механикаи никакого волшебства.Помещение, знаете, у меня —мало̀.Гостей приниматьвозможности не дало́.Путь, конешно, тожедо насдли́нен.А тут к тебеиз чемодана:«Ало́, ало́!К вам сейчаспоявитсятоварищ Калинин».Я рад,жена рада.Однакоделаемспокойный вид.– Мы, говорим,его выбирали,и ежелиемунадо,пустьМихал Ванычс нами говорит».Фактически Маяковский описывает утопическое, для того времени, использование радио «по востребованию», ныне называемое принципом on demand25. «И тогда писали письма на радио с просьбами дать прозвучать желаемому произведению», – возразит читатель. Да, похоже, уже и начали писать; специальные отделы вещательных организаций вскоре станут фиксировать так называемые «культурные ЗАПРОСЫ населения». А также – нередко выполнять, а чаще имитировать их УДОВЛЕТВОРЕНИЕ в «концертах по заявкам».
Ибо часто в письмах выражались пожелания публики: примитивные, даже с угрозами радиослушателей («только чтоб Бетховен не мешал нам отдыхать», и – в письме слесаря, узнавшего, что «свою музыку, которую вы передаете постоянно, Бетховен писал для царя и графов его. Так за что мы боролись?… Вы хотите, чтобы мы украшали наш пока еще суровый быт этой скукой, да еще контрреволюционной. Может, нужна помощь рабочего контроля? Так мы это с удовольствием…»)26. Не зря длительный период шла дискуссия о содержании эфира «Частушка или Бетховен?»
Маяковский же воссоздает свое понимание «идеального воплощения» принципа высокого культурного запроса: ведь его «Катушкин» мечтает, что получит «на дом оперу «Кармен». Однако честное перо художника не может не фиксировать – словно случайные – интонации требовательного приказа-«запроса», открывающие хамские, приказные, потребительские обертоны просьбы рабочего. И в этом усматривается прозрение тех сторон этой утопической картины, которые приведут впоследствии к формированию «сервилистского» отношения к СМК и в целом – к искусству и культуре, на грани бесцеремонности:27
«– Подать, говорю,на домоперу «Кармен». —Подали,и слушаю,в кровати лежа».28Но все же преобладает в этих стихах чувство радостной благодарности новому средству коммуникации, осуществленному фрагменту утопии. Притом, как свойственно было тогдашней пропаганде, все технические новшества считались достижением только лишь Советской власти:
«Очень приятное это —р-а-д-и-о!Завтра —праздник.В самую раньслушатьмузыкусяду я.Правда,частоиграют и дрянь,но это —дело десятое.Покончил с житьишкомпьяными сонным.Либо —с лекцией,с музыкой либо.Советской властис Поповым и Эдисонамиот всей душипролетарское спасибо!»29Обобщая черты всего блока поэтических текстов второй половины 1920-х годов (гипертекст позднего периода творчества Маяковского), выскажем предположение о глубинной связи личности их автора с радио не только как актуальной приметой времени, как одним из сквозных, важнейших образов осуществления сверхчеловеческих возможностей, но и как феноменом, особенно близким поэту.
Представляется, можно усмотреть некую идентификацию мастера советской словесности, человека огромного роста, громкого, резкого, в силу напористости и внутренней хрупкости даже прямолинейного, выступающего в роли «глашатая-главаря», над всеми литераторами выделенного ярлыком «первого поэта революции», но душевно одинокого, – с РАДИОБАШНЕЙ. Радиобашней – реальным устройством, прибором, высокой вехой на плоской местности и в то же время – метафорой силы, чутко откликающейся на запросы современности, громогласной нередко не только от наглости, но от желания заглушить собственные сомнения; от бессилия – орущей, яростно призывающей массы к живым реакциям. Таким «железным голосом» стремился говорить со слушателями поздний Маяковский. Ему не удавалось соответствовать принципу «Оn Demand», его послания переставали достигать цели, и «рупор» его громкоговорителя замолчал…
Может быть, и по причине ощущения радиотрансляции в качестве некоего продолжения, непосредственного распространения своего авторского послания, Маяковский в статье «Расширение словесной базы» (1927)30 ставит условием правильного истолкования стихов только авторскую интерпретацию и обучение чтецов по радио «с авторского голоса»; здесь он также провозглашает преимущество «актуальности» слова перед его «художественностью»:
«Мы поняли и прокричали, что литература – это обработка слова, что время каждому поэту голосом своего класса диктует форму этой обработки, что статья рабкора и «Евгений Онегин» литературно равны, и что сегодняшний лозунг выше вчерашней «Войны и мира», и что в пределах литературы одного класса есть только разница квалификаций, а не разница возвышенных и низменных жанров. (…) революция – это не перерыв традиции.
Революция не аннулировала ни одного своего завоевания. Она увеличила силу завоевания материальными и техническими силами. Книга не уничтожит трибуны. Книга уже уничтожила в свое время рукопись. Рукопись – только начало книги. Трибуну, эстраду – продолжит, расширит радио. Радио – вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру.
Это слово становится ежедневно нужнее. Повышение нашей культуры, отстраняя изобразительные (плакатные), эмоциональные (музыка) прикрасы, гипнотически покоряющие некультурного, придает растущее значение простому, экономному слову. Я рад был видеть на Советской площади ряд верстовых столбов времени, на которых просто перечислялись факты и даты десятилетия. (…) «Жизнь искусства», сравнивая кинокартину «Поэт и царь» с литмонтажем Яхонтова – «Пушкин», отдает предпочтение Яхонтову. Это радостная писателям весть: дешевое слово, просто произносимое слово побило дорогое и оборудованнейшее киноискусство.
Литературные критики потеряют свои, характеризующие их черты дилетантизма. Критику придется кое-что знать. Он должен будет знать законы радиослышимости, должен будет уметь критиковать не опертый на диафрагму голос, признавать серьезным литературным минусом скверный тембр голоса. (…) Критик-социолог должен из отделов печати направлять редактора. Когда напишут, критиковать поздно. Критик-формалист должен вести работу в наших вузах, изучающих словесное мастерство. Критик-физиолог должен измерять на эстраде пульс и голос по радио, но также заботиться об улучшении физической породы поэтов. (…)
Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать минут на радио. Я требую, громче чем скрипачи, права на граммофонную пластинку. Я считаю правильным, чтобы к праздникам не только помещались стихи, но и вызывались читатели, чтецы, раб-читы для обучения их чтению с авторского голоса».31
***
Конечно, не только великие поэты воссоздавали образ радио как атрибута счастливого «сегодня» и утопического «завтра». Тема была актуальной и востребованной, политически выгодной, потому ее отображали многие литераторы, чаще – «на потребу дня».
Известно, что чрезвычайно важным и волнующим представлялась, в огромной России с ее просторами, не подвластными ранее охвату, возможность с помощью радио доставить политически идеологически нужную информацию в достаточно отдаленные уголки, где стало функционировать вещание. Потому одним их важнейших идеологи признали соединение радио и мира деревни.
Потому и не случайно заглавие, кажущееся пожароопасным, но внятно говорящее об электрификации деревни, поэтического сборника «Провода в соломе». Оно собрало сочинения важного в СССР поэта Михаила Исаковского. Из этого сборника часто цитируют знаменательные, весьма выразительные строки стихотворения «Радиомост» (1925):
«К деревням и селам из столицыПротянулись радиомосты. (…)И в углу прокуренном Нардома,Сбросив груз соломенной точки,Вечером доклад из СовнаркомаСлушали, столпившись, мужики.Грудь полна восторженного гула,Но кругом немая тишина, —Будто всех внезапно захлестнулаГолубая радиоволна.А когда невидимые скрипкиЗазвенели струнами вдали, —Теплые, корявые улыбкиНа корявых лицах зацвели»32.Максим Горький в подборке рецензий на стихи советской печати этого периода прозорливо отметил:
«А вот Госиздат напечатал книжку стихов крестьянина Михаила Исаковского „Провода в соломе“. Этот поэт, мне кажется, хорошо понял необходимость и неизбежность „смычки“ (города и деревни – Е.П.), хорошо видит процесс ее и прекрасно чувствует чудеса будних дней».
Горький почти целиком цитирует стихотворение «Радиомост»; приведем и мы ранее не приведенные важные для темы строки. А последующие замечание писателя подтверждает, что именно радио было призвано способствовать «наведению мостов» между городом с его идеологическим диктатом и считавшейся «убогой» деревней:
«Каждый день суров и осторожен, / Словно нищий у чужих ворот: / Был наш край от мира отгорожен / Сотней верст, десятками болот. / Эта глушь с тоскою неразлучна, / Ветер спал на старом ветряке. / Падал дождь. И было очень скучно, / И дремали мысли в тупике. / Но взметнулись, вспыхнули зарницы. / Чрез болота, пашни и кусты, / К деревням и селам из столицы / Протянулись радиомосты» (…) / Этот день никто не позабудет, / Этот день деревню поднял в высь. / И впервые неохотно люди / По своим избушкам разбрелись».
Михаил Исаковский не деревенский, а тот новый человек, который знает, что город и деревня – две силы, которые не могут существовать отдельно, и знает, что для них пришла пора слиться в одну, необоримую творческую силу, – слиться так плотно, как до сей поры силы эти никогда и нигде не сливались. В сущности, именно этот мотив и звучит во всех стихах Исаковского:
«Разбудили сразу, растревожили, Сердце бьет во все колокола, Мы воскресли, Мы сегодня ожили, Чтоб творить великие дела».
***
Наряду с сочинениями, где концепции, предощущение, мечты о радио были сугубо или в основном позитивными, есть немало строк с первых послереволюционных лет, которые литераторы посвящали опасениям, связанным с ориентацией на «массу» и на участие «техники» в творческой деятельности. В свете негативной символики представали в их текстах послереволюционные и все ужесточающиеся условия сотрудничества мастеров словесности с государством, а также образы наступающего «завтра», с его непременным призвуком – радио.
Восторг от идеи радио не разделяли художники слова, видевшие в этом средстве коммуникации метафору воплощения самых опасных тенденций управления искусством и людьми. Поэт Михаил Кузмин писал о невозможности предписывать пути высокому творчеству при полной допустимости диктовать «каждодневному искусству»: «Камертон минутному, заздравному или заупокойному, всегда несвободному и без того хору». Для него «хор» уже приобрел тревожный смысл: это порабощение коллективом вольного духа искусства, грозящее потерей поэтических «крыльев», как в стихотворении ″Летающий мальчик″ (1921): ″Не страшны страхи эти – / Огонь, вода и медь, / А страшно, что в квинтете / Меня заставят петь″»33.
Приводя и обсуждая литературные тексты, где предстают образы радио, рождающие антиутопические пророчества, вспомним, что с начала ХХ века все большую роль стал играть феномен скорости, повышение темпа мышления, действий и звучаний. Отметим угрозу абсолютизации этого параметра – то, что поэт интуитивно ощущал огромной опасностью внедрения «нечеловеческого»: метафорическое «ускорение»34.
Завороженность механическим, тиражируемым, скоростью воздействовала подсознательно. После недавнего рабского крепостного права и стремительной демократизации в России, это предвещало ее особое массовое общество. Следующим этапом станет то, о чем писал Ж. Бодрийяр: «Автоматизация – это определенная замкнутость, функциональное излишество, выталкивающее человека в положение безответственного зрителя (…) мечта о покоренном мире, о формально безупречной технике, обслуживающей инертно-мечтательное человечество»35.
Потому разнонаправленные, казалось бы, устремления авангардистов и низкая прикладная «автоматическая музыка» влияли на формирование общественного сознания, обретая ореол (истинность коего амбивалентна) воплощения единственно разумного, справедливого будущего устройства страны.
Для России это грозило уникальным созданием целостности, устремленной не на выравнивание прежних различий, позиций существования, целей, методов, а на унификацию, формирование «подобных» меж собой сочленов, в устах поэта – безликих «гвоздей» (метафора возникла не без влияния «Баллады о гвоздях» Н. Тихонова, 1919), забитых в здание строящегося советского «светлого будущего».
Мечты о «невозможном мире» ярко воплощались в литературных описаниях неслыханного, не бывавшего. Так, в романе «Мы» Евгения Замятина (1920) обратим внимание на не только известные сюжетные коллизии и невозмутимо спокойные, зловещие картины «общества будущего», но и авторские представления о соответствующих им звучаниях – нередко исходящих из радиоприбора или громкоговорителя36. Они отображают незнаемые перспективы сферы чувств, пугающую трансформацию соотношений рацио и интуиции в повседневности, как и того, что трактуется как искусство.
«Мы» предвещает очень многое в отечественной философии и идеологии. Подобное, казалось бы, «носилось в воздухе» с первых лет революции, развивая идеи русского космизма и представления о расширении возможностей людского рода. Так, происходящее в романе Замятина, являет собой прозрения в художественной форме антиутопии тех задач, которые ставил перед будущим, задолго до нынешнего «трансгуманизма», Лев Троцкий: «Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной»37.
За несколько лет до открытия советского радиовещания в тексте Замятина возникает важнейший кентаврический (некая смесь человека с машиной) персонаж – киберг. Это некто «фонолектор», в котором можно увидеть также и прообраз радио-пропагандистов, в том числе в передачах о музыке. Сама же музыка – показательная часть всего искусства будущего – предстает как победа рацио над «вдохновением», разума над чувствами, совестью, верой. А главное, фонолектор описывает «музыкометр», позволяющий нелюдям-«номерам», с помощью мнимо художественных посланий напрямую впитывать директивные указания. Фонолектор, конечно, олицетворяет имперсональные «голоса сверху». Вот он повествует о:
«…нашей музыке, математической композиции (математик – причина, музыка – следствие)», описывая механическую модель ранее спонтанного творчества, «недавно изобретенный музыкометр»:
«…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час», в отличие от прежних «припадков вдохновения – неизвестной формы эпилепсии»38.
Потому «теперешняя музыка» в мире замятинской антиутопии будущего общества – это «живительные потоки, лившиеся из громкоговорителей»39, – …где «живительным» является гальванизирущий роботоподобных механический марш, созвучный послеобеденной коллективной прогулке безличностных «номеров»:
«Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства»», когда «мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера – сотни, тысячи номеров…»40.