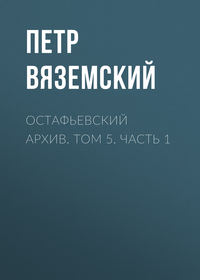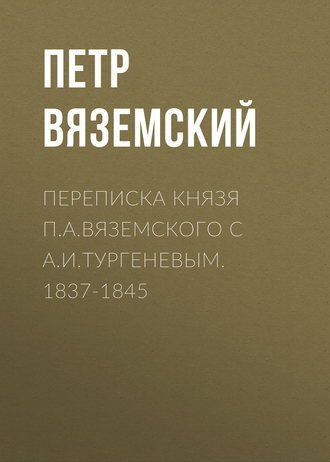 полная версия
полная версияПереписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1837-1845
Здесь нашел и две книжки «Современника», ничтожнейшего из ничтожных; дюжину толстых «Отечественных Запасок», в коих многое пробежал, если не прочел. Дает по крайней мере понятие о том, что делается дельного и бездельного. Сербинович раз писал ко мне в Париж недавно, но «Журнала Просвещения», кажется, не послано. Разве без меня?
В Германии Тейнер, монах оратории, издавший года за три сильную критику и клевету на наше церковное правительство, недавно издал другую книгу с переводом рапортов графа Протасова государю, с злобными, а иногда и с дельными примечаниями. Я писал слова два о сей книге к Сербиновичу с немцем, коего рекомендовал ему из Гейдельберга. Знает ли он о сей новой книге? Не худо бы ответить. Дай ему знать об этом: авось, он откликнется в Париж и справится, не залежалось ли чего в канцелярии графа Нессельроде и перешлет с последними паровозами.
Посылаю тебе зеленую тетрадку. Автор живет в Германии, где-то учительствует и много пишет для отчизны.
Я переписал из твоего письма для Свербеевой, следовательно, не трудись. Перешли письма, да пожалуйста и все книжки Сушковым, Свербеевым и прочим. Отсюда нечего.
Поэт Б[оратынский] умер по пословице: «Vedi Napoli е poi muoril»
Сейчас прокатился с хозяевами в первый раз по Франкфурту. Жуковский пошел в графине Разумовской. Я обрыскал книжные лавки и магазейны: ничего нет в Париже, опять приведется везти туда столовое полотно и безделки для Сашки и Софьи. Встретил графа Ал. Потоцкого. Он ехал к графине Салтыковой (урожденной княжне Голицыной) и сказал мне, что она получила добрые вести о князе Александре Николаевиче из Крыма.
Мы уже садились обедать (2 1/2), как за Жуковским приехал нарочный из Бибериха пригласить его к обеду к герцогине Нассаусской. Он покинул суп и нас, оделся и отправился на железную дорогу через Майнц и в пять часов кушает там с Радовицем. Гром и молния провожали его. Теперь все просияло. Он возвратится в десять часов вечера и допишет это письмо.
11 Septembre.
Вчера графиня Салтыкова, урожденная княжна Салтыкова, расцветшая душой и телом, просидела у меня часа два и рассказала о жизни дяди в Крыму. Кажется, он там не на розах, хотя они и благоухают вокруг его. Кажется, что петербургские его корреспонденты не так исправны и не досылают ему всего исправно. Нельзя ли справиться у Прянишникова моим именем, послал ли он в прошлом году посланные пакеты с графиней Бенкендорф? Князь не раз писал ко мне через других, но об этих книгах ни слова, ни о других, а между ними была одна редкая, и эту только послал я только для прочтения.
Если Сербиновича уведомишь, что для него пишу, то прибавь, что вышла еще по его части любопытная книга Zuchenheim «Kirchliche Zustände in Bayern und Polen» и уверяют, но я не читал ее, что очень любопытно. Шлоссер в «Heydelberger Jahrbücher» сделал о ней статью, но и статьи я еще не читал.
Вчера нашел я в салоне нашем Дашкова вдову, дочь и сестру. они возвратились из Италии. Дочь очень похожа на отца, а мать я помню в её летах. Сестра очень много о тебе расспрашивала и очень нежно о тебе заботилась. В отечестве Вильгельма Телля она выдрала все волосы у горничной девки, и ее видели плешивою.
Приписка В. А. Жуковского.
Тургенев хочет, чтобы и я писал к тебе, по я могу только тебя письменно обнять, а писать к тебе некогда: иду со двора, чтобы увидеться с Дашковой, которая здесь и скоро уезжает. Если Тургенев в своем письме, которого прочитать не успею, написал тебе что-нибудь о Гомере моем pro или contra, то ни чему не верь; когда он попросил меня ему что-нибудь прочитать, я согласился, а он благоволил заснуть на десятом стихе; похвала ли это или осуждение – не знаю. Я кончил восьмую песню. Теперь опять пойдет живо. Прощай! Обними своих, кто на лицо, и Карамзиных, если они на лицо.
Приписка А. И. Тургенева.
Сегодня день нашего ангела, 30-го августа запоздалого летосчисления: честь имею вас поздравить.
957.
Тургенев князю Вяземскому.
8/20-го сентября 1844 г. Франкфурт на Майне.
Вот тебе живая и мертвая грамота: Велгурский и письма мои. Мы провели несколько минут вместе. Вчера не остался я к ужину и с кем же! В этом все мое настоящее! Если хочешь знать и о моей болезни, прочти письмо к сестре и к Свербеевой. Всего больнее сердцу, что я и в Париж еду с мрачным предчувствием; хотелось бы объехать его, прямо в Шанрозе! Мне немного сноснее, но все боль, сжатие в боках, везде. Мольерово лекарство употребляю через день, 24 дня ежедневно принимал в себя. расспрашивал о тебе, о твоих. Люблю вас всех по прежнему. Слушаю «Одиссею» Жуковского. Простота высокая и свежесть запаха древности так и наполняет душу! Что за колдун Жуковский! Знает по-гречески меньше Оленина, а угадывает и выражает Гомера лучше Фосеа. Все стройно и плавно и в изящном вкусе, как я распределение и уборка кабинета, салона его. Стихи текут спокойно, как Гвадалквивир, отражая гений Гомера и душу Жуковского.
Иду в книжные лавки поискать чего-либо бельгийского формата для Крика и Подсолнечного.
Отошли прилагаемые пакетцы; один посылаю с Убри, другой с Велгурским. Для тебя и в тех и других приятная беседа на зиму; с первым вспомнишь самовар франкфуртский.
От графа Протасова узнал я подробности о болезни и смерти Боратынского. можно было спасти кровопусканием. Доктор не настоял; другого призвали уже после смерти к жене.
Гоголь вчера был у нас; обещает заглянуть и в Париж, но к весне. Теперь едет в Рюдельгейм и возвратится сюда в мою комнату. Я радуюсь графиням Велгурским на зиму в Париже.
Если ты в сношении с кем-либо из Мещерских, – перешли записочку к Елене. Прости! Обнимаю тебя всем сердцем и помышлением. Тургенев.
Попроси у Подчаского прочесть письмо княгини Голицыной (Nocturne) к пэрам Франции. У меня петь его.
3 часа по полудни.
Видел Лазаревых-Вирен. Устал. Не знаю, уложу ли пакет для Убри.
968.
Князь Вяземский Тургеневу.
2-го октября 1844 г. С.-Петербург.
30-го сентября старого стиля послано к тебе чрез Штиглица 278 рублей серебром, полученные из казначейства. Все твои мертвые и живые грамоты получены, а что следовало и разослано по принадлежности. Мне жаль, что ты не остался во Франкфурте под крылышками Жуковского и Коппа Парижские врачи начнут тебя опять пичкать, да и Бог Парижа не Бог больных, а здоровых. Во Франкфурте было бы тебе покойнее, тело- и душе-спасительнее.
Книгу кабалистическую отдаю Попову для доставления князю Александру Николаевичу, коему сделана операция и с полным успехом, так что он мог видеть; но последствия, сказывают, не совсем удовлетворительны, и теперь глазам его хуже. Лето наше, которого нынешним летом мы впрочем не имели, кончилось, и народ слетается в город из-за моря и с дач. Сегодня великоторжественный день открытия итальянской оперы. Теперь на всю зиму разговор заведен. Только и будет толку, и часто очень безтолкового, что об опере.
Другая важная политическая весть есть смерть графа Эссена, который умер, заказывая свой обед. Я очень здесь рад Тютчеву. Вот тоже прелестный говорун, как покойник Козловский, но с понятиями и правилами более твердыми. Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание. Я часто являюсь в салон с потребностью и желанием говорить, но после двух минут чувствую, как замерзают мои мысли в голове и слова мои в горле.
На днях напишу к тебе чрез Жуковского. Вот еще Андреевская лепта слетела. Сию минуту получаю письмо от Булгакова, уведомляющего о смерти графа П. А. Толстого от удара. Он же пишет, что князь Александр Николаевич может уже писать крупное. Обнимаю тебя и желаю выздоровления.
959.
Тургенев князю Вяземскому.
2/14-го октября. Шанрозе.
Вот тебе еще два письма: прочти, какое хочешь и отошли немедленно.
Я все страдаю, но более духом, слыша кашель Клары и пальпитации Сашкина сердца. Солнце еще светит, но в Париже еще не живо, особливо для безногих. Все еще не знаю ничего верного об операции князя Александра Николаевича Голицына. Булгаков ко мне не писал о сем, а он и Александр Михайлович Тургенев – к Жуковскому. Сердце верит, а ум отказывается. Напиши о сем. Ты увидишь, что и как читаю. Глаза еще не совсем отказывают. Что твои? Мы как-то разъединились письменно, но сердце все тебе принадлежит, не смотря на разномыслие во многом. Ты меня уведомляй только хотя о себе и о своих. Возьми место Бенкг[аузена] в Лондоне и часто навещай Париж и Германию: и без воровства жить чем будет, но уживешься ли без языка? Жаль, что Шпис здесь бессменный, ибо он по другим, особенным поручениям. Все можно облагородить полезным занятием для людей и России, даже и места Шписов и Бенкг[аузенов],
Прости! Поклон Булгакову и помни любящего тебя Тургенева.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому, г. вице-директору Департамента внешней торговли. В С.-Петербурге. Le prince Pierre Wiazemsky. А St-Pétersbourg.
960.
Тургенев князю Вяземскому.
10/28-го октября. Champrosay.
Я получил сегодня здесь письмо твое от 2-го октября и в то же время вексель в 278 рублей серебром от Штиглица. Я, кажется, худо расчел, послав тебе из Франкфурта доверенность и полагая, что мне следует за несколько месяцев; но, кажется, я получил прежде за пять или шесть месяцев, а теперь выслано только за два или за три до 1-го сентября. Не знаю, есть ли записка у тебя, из коей видно, за какие месяцы я получил уже, то потрудись уведомить при случае (или за восемь или за девять месяцев с 1-го января).
Бот и еще, если не два светила, то две Андреевские звезды сорвано с русского неба! Жаль графа П. А. Толстого. Он некогда любил нас, но вечная память доброму человеку, quand même. Здесь сын его, Александр, но третьего дня он еще не знал о своей потере. Это письмо пойдет с графом Шуваловым, и в нем письмецо в Москву перешли. Все ли получил из Франкфурта и отсюда? Ожидаю с нетерпением твое письмо к Жуковскому. очень бы хотелось пожить с ним, по мени все куда-то тяпет. Это предчувствие последнего вояжа. Возвращусь к нему в самом начале здешней весны; поживу с ним с неделю и отправлюсь далее и, хотя больной, уеду в Москву, хотя я почти совсем кончил материальные мои сношения с отечеством: одна любовь осталась, но это много, очень много. Вчера приснилось мне, что я опять в St.-Acheul, в келье Xavier Гагарина; что мы сбираемся уехать оттуда: коляска и русский бородач на дворе, и я уговаривал его во сне не останавливаться в Амиенсе, а переменить лошадей и далее; с этим совсем проснулся. Через несколько часов я получил вчера же письмо от третьего дня (26) от него, из коего выписку посылаю Свербеевой. Сегодня отвечал ему; обещал книг, кои пошлю из Парижа, именно – Самарина диссертацию, а вы пришлите мне другой экземпляр. Он занимается там Россиею, и это подает мне некоторую, хоть слабую, надежду; мне бы хотелось совратить его в евангелическое исповедание: иначе трудно выпутаться из римских тенет. Если бы граф Протасов прислал мне для него все, что вышло о русской церкви, я бы доставил ему: авось! Но боюсь того же действия, какое имели апологетические сочинения Ф[иларета] и М[уравьева]. Он и славянизмом много занимается, но для сего нужны ему советы наших московских славянофилов. Странно, что мне же первому довелось переписываться с иезуитом, да еще и с русским. Если я оправлюсь порядочно, то заведу переписку ученую, не полемическую, и постараюсь впустить в гнездо иезуитское «Сеятеля»; но дело в том, что для главных не убеждение нужно.
Читал я книжку Стурдзы, в Яссах напечатанную на французском языке: «Etudes réligieuses, morales et politiques». Он созрел и в науке, и в слоге. Желал бы иметь ее: читал чужую.
Поклонись Тютчеву; очень рад за вас обоих, что вы встречаетесь. Получил ли или отправил ли его книжку? Скажи ему, что она не всем здесь понравилась.
Здесь итальянская опера не будет столь блестящею, как прежде, за то двенадцать представлений англинскихь.
Напишу после, когда оправлюсь от теперешней хандры-недуга, замечания на книжку Тютчева. Будет ли он продолжать вразумлять Европу на счет наш? Ему стоит только писать согласнее с его европейским образом мысли – и тогда он ближе будет к цели, которую себе предполагает.
17/29-го октября.
Прости, мой милый! Посылаю письмо в Париж чрез княгиню Гагарину к графу Шувалову, который едет после завтра: хотя и сам возвращаюсь завтра, но опасаюсь нездоровья. Вот что à peu près отправлено: с Кудрявским – два пакета; с Лебуром – два (или три?); с посольством, к последнему пароходу, один, с Опочининым два, с князем Голицыным один или два, да еще с кем-то, не помню. Стихов о Дежер[андо], Маре и Монлозье сегодня не посылаю.
Если желаешь, то прочти письма мои к сестрице и к Свербеевой, но про себя, и хорошо бы переслать прямо к сестрице или к Свербеевой.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому, г. вице-директору Департамента внешней торговли. В С.-Петербурге. Le prince Pierre Wiazemsky. А St.-Pétersbourg.
961.
Тургенев князю Вяземскому.
1-го ноября (Всех святых), полдень. 1844 г. Париж,
Tibi et igni. Я встретил сейчас Канкрина в Palais-Royal, и мы разговорились. Я давно сбирался спросить его о тебе и о твоем будущем. Он сказал мне à peu près следующее: по несчастью, в твоем департаменте директором должен быть военный, потому что много военных под командой, а перевести в другой было бы для тебя невыгодно в пекуниарном отношении, ибо нигде таких частых и значительных выдач и премий не бывает, как по твоему департаменту. Хорошо бы было тебе быть и на месте Дружинина и, кажется, он бы это сделал, если бы Дружинин удалился, по более всего он желал бы тебе места начальника банка и спросил меня, кто назначен вместо Обрескова. Я не знаю. Вот это бы место для него'1'. «Впрочем», прибавил Канкрин, «и в теперешнем месте Вяземский очень полезен; он часто заменял директора и хорошо пишет но-французски, в чем часто случается надобность». Я отвечал, что по-французски ты пишешь правильнее, нежели по- русски, хотя ты один из наших лучших авторов. Канкрин подтвердил хвалу, но сказал, что оффициальную прозу кто-то еще лучше тебя пишет у вас (кто такой?). Одно только: «У него червячка нет». Я спросил значение этого выражения, и Канкрин объяснил мне, что ты не с таким жаром принимаешься за дело, как некоторые, и опять начал хвалить тебя и пр. Я сказал, что я всегда опасался, чтобы место Дружинина Канкрин не отдал Мейендорфу. «Никогда», отвечал он и сделал очень дельную и, по моему, справедливую характеристику Мейендорфа, по не в его пользу. Главный недостаток, что не знает ни дел, ни России. Пожалуйста, изорви это письмо, не для меня, а для себя или для Канкрина: я уже известная кумушка.
Купил «Jaqueline Pascal», Кузеня и надеюсь, что возьмет граф Шувалов, ибо волюмчик небольшой, хотя и толстоват. Во вчерашних «Дебатах» – статья о ней. Пожалуйста, немедленно перешли в Сушковой по прочтении. Поэму: «Les deux anges» с другими стихами также хотел послать, но 8° велик.
Обнимаю тебя. Постараюсь увидеть Бутовского и спросить его, не может ли отправить несколько книжек.
Хотелось бы тебе указать на одни стишки, но не смею. До свидания. Встретил княгиню Catiche Любомирскую; она меня узнала и остановила, но я едва угадал ее.
2-го ноября.
Граф Шувалов едет завтра. Посылаю еще книжку сестрице: «Мысли и переписка….»[25]. Перешли чрез Булгакова.
6-го ноября.
Присылай Самарина для St.-Acheul: мой экземпляр затерялся. Читаешь ли ты по-англински? Прочти роман………….[26] и отошли к Свербеевой. Дай знать Булгакову, что получил его письмо от 11/23-го октября, по удивляюсь, что в нем ни слова о князе Голицыне. Из первого знаю об успешной операции, по ничего о последствиях.
Вчера провел с час с Канкриной. Муж и она спешили в италианскую оперу, где бывают каждые две недели. Канкрин сделался совершенным dendy. Обнимаю тебя. Пожалуйста, немедленно отправь, запечатав, письмо к сестрице, хоть чрез Булгакова.
На обороте: Его сиятельству князю Петру Андреевичу Вяземскому, г. вице-директору Департамента внешней торговли. В С.-Петербурге. Le prince Pierre Wiazemsky.
962.
Тургенев князю Вяземскому.
8/15-го ноября 1844 г. Париж.
Граф Канкрин позволил прислать только пакет незапечатанный с письмами и один волюм. Посылаю письма с листками. Отправь немедленно и приложи к ним то, что не дослал; например, Сен-Бёва, три части (Сушковой) и прочее. Пятую часть L. Blanc оставь у себя, если у тебя нет её; а если есть, то, хотя чрез Попова, отправь ее к князю Александру Николаевичу. Я послал ему первые четыре с графом Бенкендорфом за год перед сим, но не знаю, отправил ли пакет с книгами на имя князя Голицына Прянишников. Он не отвечал мне, а в том пакете была и книжка герцога Ноаль с надписью Рекамье, для меня драгоценною. Я просил князя Голицына эту одну книжку возвратить мне. Если не посланы к князю Голицыну первые четыре части, то и этой посылать не для чего, а лучше в Москву, если у тебя уже есть она. Посылаю для тебя и «Послание к пэрам» княгини Голицыной. Жаль ее и стыдно за русское имя. Теперь сбирается она объявить войпу Арого. Постараюсь отклонить ее, но удастся ли? С примесью сумасшествия она и очень проста, и упряма; все это с очень добрым сердцем.
Передай поклон Булгакову. Письмо его с письмами Свербеевых и с вестями о концертах получил и благодарю. Поклонись и Велгурским. Все ли получил от них? Вчера провел у графинь, милых и добрых до меня, вечер и смеялся к облегчению невральгии. Живу на пять минут от них.
Обнимаю тебя и твоих всем сердцем. Прочти письма мои, если желаешь, но пожалуйста ни дня не задерживай. Что с тобою делается? Давно ни слова. Прости!
Вчера в десять часов утра, исповедавшись и причастившись накануне, умер князь Элим Мещерский. Жену увезла к себе Кайсарова. Мать плачет над телом, по переносит христиански.
Вот и тебе послание Ночной княгини. Прочти его графу Велгурскому, если графиня не пришлет. Оно для тебя, а если имеешь, то отошли в Симбирск.
Вот и первый номер Бартелеми, но плох. Других посылать не буду, разве по выбору. Если не полюбится, отошли Свербеевой.
6/17.
Вчера графиня Потоцкая, все умирающая, приехала в тот же дом, где Велгурские. Ее внесли в комнаты. Киселева едет завтра в Нису; разве приезд брата остановит.
На обороте: Князю Вяземскому.
1845.
963.
Князь Вяземский Тургеневу.
[29-го января. Петербург].
Не знаю, кто у нас в министерстве еще лучше моего пишет оффициальную прозу, то-есть, о ком говорит граф Канкрин; но легко верю, что найдутся и многие, Я знаю одно, что Канкрин совершенно прав, когда говорит, что у меня червячка нет; именно нет le ver rongeur, le ver solitaire, тот необходимый червячек, который делает из человека служаку, и без чего нельзя служить. Кажется, Вольтер говорил, что трагическому актеру нужно иметь le diable au corps: без этого актер будет вял, холоден, не увлекателен. Червячек, о коем говорит Канкрин, есть именно le diable, о коем говорит Вольтер. Я за трапезою службы ем, но не объедаюсь, не упиваюсь, не лакомлюсь. Je mauge pour vivre, mais je ne vis pas pour manger, то-есть, служу добросовестно, по крайней мере, довольно добросовестно и усердно, но не страстно, не восторженно.
Для меня служба – не любовница, а законная жена; –. Я не то, что сосед мой, Сенявин, который одушевлен приапизмом службы, задорится на нее, тает над отношением и купается в сладострастном и чернильном поте канцелярских наслаждений. Оно нам со стороны смешно, а выходит, что он прав. Служба требует, чтобы обожали ее, боготворили, как любовницу, а тому, который обращается с ней, как с женой, она не открывает сокровищницы своей любви, своих любострастий, а изменяет ему и ставит рога. Канкрин совершенно прав; я всегда был той же мысли, по выражал ее иначе. Я говорил, что, по крайней мере у нас, деловому человеку нужно иметь ум, но нужно иметь и некоторый запас глупости, тяжести: это необходимый балласт, который придает судну правильный и успешный ход. Без этого балласта будешь выше службы или ниже, как хочешь, но не будешь иметь равновесия, следовательно, не будешь для службы годен. Канкрин говорил мне однажды, что в службе, в делах государственных, не должно пренебрегать мелочами; что каждая ничтожная бумага имеет свое значение в общей массе; что эти мелкие дела – песчинки, из коих образуется гора. Оно так: хорошо для горы, в ней есть и поэзия; по каково же песчинке, если признать в ней мысль и чувство? Как ей полюбить свое состояние? Ей душно в этой горе, и надобно решиться быть мертвым зерном, а не искрою. Впрочем, я уже ни в чем и не для чего не искра: я заморил и уморил всех червяков своих.
Вижу из писем твоих, что ты более хандришь, нежели хвораешь. Точно то же и со мною: на меня напала, мною овладела черная немочь, если не совсем черная, то темная, серая. Одно меня выводит иногда из этой апатии, – это глупость, то-есть, дурачества, безумие твоих французов. По старой привычке я их еще люблю, но более люблю начало, принципиум, коего они представители, люблю умственную силу, цивилизацию; понимаю их не так, как они их понимают; но знаю, что и благия, и вредные действия их, то-есть, французов, имеют сильное влияние на общий ход мнений и дел. Разве не гадко видеть эту pièce il tiroir, которую снова разыгрывают в балагане Палаты депутатов? Эта оппозиция кричит против l'abaissement, l'avilissement de la France, a сама не попимает que c'est elle qui abaisse la France et avilit le gouvernement représentatif par l'odieux et ridicule spectacle qu'elle donne il l'Europel Dans tout ce tapage des paroles il n'y a pas un seul accent de conviction et de bonne foi. Ce Mole, qui a été renversé du ministère pour avoir méconnu les intérêts et la dignité de la France, est replacé par les mêmes adversaires à la tête de l'attaque qui doit culbuter le ministère actuel. Mais on n'a donc plus de pudeur en France? Mais si l'opposition était payé par les gouvernements absolus pour discréditer le système représentatif, elle ne pourrait mieux faire, ni faire autrement. Voilà ce qui se dit chez nous par les hommes les plus sensés et les plus impartiaux. Mais quel est le gouvernement sage et jaloux de sa dignité qui pourra désirer le rapprocher d'un gouvernement qui vit au jour le jour, qui se trouve à la merci de bavards comme Billault et compagnie, de ces condottieri de la parole qui font des coups de main ou des coups de langue sans se soucier de ce qui pourra en arriver. Et l'opposition et toute la France savent bien qu'un changement de ministère, qu'un changement de nous propres ne fera rien à l'affaire, que la force des choses est plus puissante que toutes les velléités possibles. Guizot, comme Mole, comme Thiers, cette trinité inévitable, peuvent se contredire en paroles, mais une fois à l'oeuvre ce sera toujours blanc bonnet ou bonnet blanc. On sera toujours en méfiance vis-à-vis de la France, non à cause de ses triomphes sous l'empire, qui ont été chèrement aquittés eu 1813 et 1814, et parce qu' on sait bien que le géant des batailles dort d'un sommeil irrévocable sous la voûte du Dôme des invalides, mais à cause de son esprit inquiet, de sa perturbation, de ses passions ardentes, de ses habitudes et allures du crâne, de son état d'ivresse permanente, qui ne permet jamais de la trouver à jeun, l'esprit frais et rassis sur quelque question que ce soit. Quand ou a à faire à elle, il faut toujours aller la chercher à la courtille de la Chambre des députés, où ils se grisent de paroles, de jactance et de vanité, et où ceux qui sont les plus soûls sont comme de raison les plus forts tapageurs et font la loi aux autres. Это co-першенно противпо тому, что делается в английском парламенте, где, по замечанию покойного Марченко, кто потрезвее, тот и отправляет текущие дела. Tout naturellement la France doit faire certaines concessions à l'Angleterre et en fera toujours, si non elle se trouvera isolée et rencontrera partout des préventions, des appréhensions et des entraves sur son chemin. Ce n'est pas le bretteur, que l'on craint, quand on évite de mettre la France ü la raison, mais son témoin politique, son allié responsable. Avec l'Angleterre on est venu ü bout de Napoléon; serait-il plus difficile de venir ü bout de Thiers, de Billault et de Garnier Pagés? Tout le monde le sait, la France mieux que tout autre, et l'opposition la première, à, quoi bon donc toutes ces bravades, ces criailleries, C'est pitoyable.
Меня не убедило или, напротив, утвердило в прежнем убеждении письмо к тебе Ксаверия. Тут нет смиренномудрия, нет духа терпения, любви; тут дух празднословия, любоначалия. Он – французский иезуит; он не вышел из мира, а только переменил кафтан, неизвестно, из каких побуждений и для какой цели. Что ему других осуждать и увещевать? Довольно с него будет, если он займется спасением души своей. Иначе не понимаю монашества, а там ожидай призвания свыше и проповедуй, когда огненный язык сойдет на тебя. Может быть, я и грешу против Ксаверия: увидим, и очень рад буду, если увижу, что я согрешил и напрасно осуждал брата моего.