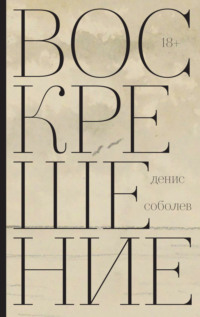Полная версия
Легенды горы Кармель
Он никогда не рисовал так хорошо, так точно, так мучительно, с такой страстью и самозабвением; никогда лица не светились такой глубиной радости и страдания, а звери и травы не были столь живыми. Одна из женщин замка, украдкой заглянувшая в часовню, задрожала так, как если бы стала свидетельницей чуда. И все же чем дальше продвигалась его работа, тем острее он ощущал свое поражение. В созданном им не было той полноты, которую он искал, и той истины, проводником которой стремился стать. Исаак все чаще уходил из часовни и бродил по селам и полям, окружавшим Франшвилль. После многих лет, проведенных наедине с призраками вечности, ветер снова шелестел в траве, а пропитанная водою земля проседала и чавкала под ногами. В один из таких дней он наткнулся на бедуинский клан – чьему шейху он когда-то помог, – который вернулся на Кармель после нескольких лет отсутствия. Его приняли как почетного гостя. «Но твое лицо омрачено», – сказал шейх. «Да, – ответил Исаак, – потому что я так и не смог услышать язык вечности». «Вы, люди Запада, – ответил шейх, – часто ищете то, чего нет. Многие ваши желания нам непонятны. Но в горах за Галилейским морем есть камни, которые помнят вечность. Возможно, они тебе помогут. Мы называем их Ружм аль-Хири». Исаак с благодарностью поклонился. На следующее утро он уже был в пути. Он пересек всю Галилею, ночевал в лесу, потом на постоялом дворе. На третий день он вышел к огромной каменной массе замка Бельвуар, когда-то выстроенного госпитальерами на горе над Иорданом; мусульмане называли его Каукаб аль-Хава, «звезда ветров». Ровные светящиеся луга вели к замку от самой Изреельской долины, на другой же стороне – дальними синими силуэтами – маячили горы Заиорданья. Галилейское море осталось на севере, слева от него.
На следующий день Исаак переплыл Иордан и, забирая все левее, начал подниматься по обрывистому склону плато, которое когда-то было отдано колену Менаше, а теперь называется Голанскими высотами. Наверху было холоднее; галилейские леса сменились степной равниной. Он подумал о том, что оказался на том самом пути в Дамаск, где когда-то повернул обратно непримиримый иерусалимский раввин. Еще два дня Исаак плутал по степи, спрашивая дорогу у пастухов и прячась от разбойников, которые – как говорили – в изобилии встречались в этих местах. Кому принадлежала эта земля, было неясно, но Исаак знал, что еще севернее – почти у подножья великой горы Хермон с заснеженной, как в Европе, вершиной – находится могущественная крепость Калаб Нимруд, незадолго до этого выстроенная племянником Саладина в качестве оплота против крестоносцев. Исаак начал бояться, что его сочтут шпионом и он окажется в страшных подземельях Калаб Нимруда; но ему снова помогли бедуины, с которыми он и здесь оказался знаком. Степными лощинами они провели его на восток, а потом указали дорогу назад на юг – к тому месту, которое они старались обходить стороной. Еще некоторое время он продолжал идти степными тропами, оглядываясь на окрестные – пустые и одинаковые – холмы; солнце спускалось все ниже; воздух медленно тускнел. Так к концу дня Исаак оказался в Ружм аль-Хири. За последние несколько тысяч лет это место скорее всего изменилось лишь в малой степени, и поэтому вполне вероятно, что Исаак увидел его почти таким же, каким его можно увидеть и сегодня. Ружм аль-Хири представляет собой четыре концентрических круга, состоящих из гигантских каменных менгиров, – сомкнутых вокруг невидимого центра. Языческое и варварское величие этого места испугало его, и он присел на траву. Закатное солнце осветило небо длинными красными всполохами на густом синем фоне. Исаак поднялся и вышел на середину круга.
«Я хочу то, что мне нужно, чтобы нарисовать вечность, – сказал он. Но ничего не произошло. – Я хочу то, что мне нужно, чтобы нарисовать вечность», – повторил он и сел на землю. Закатная синева быстро темнела, становилось все холоднее; и Исаак начал дрожать. Неожиданно он почувствовал мучительное жжение в области груди, потом оно сменилось пульсирующей болью; он опустил глаза и увидел, что все его тело охвачено светом. Свет был столь сильным, что Исаак видел даже внутренний ряд менгиров, обступивших его сомкнутым кругом. Ему показалось, что вся боль мира – неизреченных человеческих страданий, чужих голосов, лишенных слов, горечи самообмана и безграничной человеческой жестокости – прошла через его сердце. И все то, знание о чем уже несовместимо с жизнью, наполнило его душу до самого края. Сердце билось и рвалось наружу, и Исаак прижал к нему ладони. Но оно светилось все сильнее и все сильнее вырывалось наружу. Тогда Исаак достал из узелка свою деревянную миску и обреченно прижал к груди. Сердце рванулось еще раз, с видимым облегчением вспыхнуло ликующим сиянием и стало распадаться на мелкие угли. Исаак стал ждать, когда угольки потухнут и он умрет; но этого не произошло. Прошел час. Угольки, наполнявшие миску, горели ровным красным свечением, пульсирующим, но не затухающим; сама же деревянная плошка оставалась холодной. Так, в ожидании, Исаак провел полночи; потом в изнеможении лег на бок, обхватил плошку руками и уснул. Он проснулся через несколько часов от ранних лучей восхода. Угли, как и раньше, светились ровным и теплым светом. Исаак поднес к ним ладони, и ладони наполнились теплом. Потом прижал ладонь к ребрам; в груди было тихо.
Он поднялся, размял руки, попрыгал на месте; постепенно становилось теплее. Но больше ничего не происходило; менгиры кольца оставались холодными, чужими, варварскими и мертвыми. Исаак обошел внутренний круг, приложил руки к камню; ничто не изменилось. Он искал хоть какую-нибудь подсказку, что же ему делать дальше, и не находил ее; круг оставался безучастным. Исаак вернулся к центру, осторожно поднял миску и нетвердыми шагами отправился назад. Теперь, с плошкой светящихся углей в руках, он еще больше боялся попасться на глаза случайным прохожим и еще глубже вжимался в степные лощины. Необходимость переправиться через Иордан поначалу привела его в замешательство; он испугался, что вода случайно попадет на угли и их потушит, а вместе с ними и его жизнь. Но потом Исаак все же взял один из угольков и осторожно погрузил в воду; он не только не погас, но, вспыхнув, засветился красным наполненным светом. Тогда Исаак приподнял плошку на ладонях и начал быстро спускаться в воду; когда же вода достигла груди, он опустил плошку на воду и, поплыв, стал толкать ее перед собой. Впрочем, еще до этого он обнаружил, что угли обладают и другим чудесным свойством. Спускаясь со степного плато на востоке от Галилейского моря, он увидел в одной из лощин человеческое тело. Подойдя ближе, он понял, что этот человек еще жив, хотя и ранен и сильно избит. Судя по вещам, разбросанным по земле, он стал жертвой разбойников. Острая и бесцельная жалость наполнила душу Исаака. Он наклонился над раненым, плеснул воду ему в лицо; человек застонал, потом открыл глаза и со страхом посмотрел на Исаака.
Исаак дал ему напиться, потом попытался перевязать рану. Но незнакомый человек продолжал дрожать и протягивать к нему руки. Тогда Исаак вспомнил про свою плошку и поднес ее к раненому, чтобы тот смог отогреться. И тут произошло нечто удивительное. Раненый человек с жадностью схватил один из углей, положил его себе в рот, проглотил и потерял сознание. Исаак подумал, что он умер, но постепенно лицо раненого начало светлеть и наполняться живым теплом, а потом он открыл глаза; чуть позже смог подняться. Довольно долго Исаак вел его по степи, пока не встретил все тот же клан бедуинов, которые пообещали приютить раненого. Уже к западу от Иордана та же история повторилась вновь, хотя и несколько иначе. Недалеко от замка Бельвуар – у восточных склонов горы Гильбоа – с ним заговорила женщина, потерявшая жениха в одной из бесчисленных стычек с бедуинами Заиорданья. Долгие месяцы она не могла найти успокоения. Исаак исповедовал ее, а потом приложил к ее груди один из углей. Женщина покачнулась, как-то осела – и вдруг выдохнула, если и не прощаясь навсегда, то расставаясь с болью. Чуть позже, уже в Изреельской долине, он встретил рыцаря с пустым взглядом; его лошадь с опущенными поводьями лениво брела по тракту. Рыцарь рассказал, что уехал из Европы, ведомый высокими рассказами про Палестину, про возвращение Иерусалима и гору Храма. Здесь же, в Акре, он нашел лишь взаимную ненависть – между тамплиерами и госпитальерами, между венецианцами, генуэзцами и пизанцами, – а еще бесконечную ложь, жажду наживы и темные торговые сделки. Исаак отдал уголек и ему; взгляд рыцаря посветлел, и он выпрямился в седле.
Эта новообретенная чудесная способность давать утешение душе и телу потрясла Исаака, а всегда витавшая над ним смутная ответственность за мироздание – непреодолимое сострадание к чужой боли – неожиданно обрела вполне материальное оправдание. С чувством вновь обретенного долга он отдавал угли своей души голодным детям, обманутым и опозоренным женщинам, нищим, отчаявшимся, пьяным и безумным. Он разбрасывал любовь к людям и бесцельную, бескорыстную к ним жалость, как разбрасывают семена на полях. То, что и огонь души может быть истощен, не приходило ему в голову. Если чего-то ему и становилось жаль, то это было время – то самое время, когда, раздавая угли, он больше не помнил о росписях стен, о живых листьях и страстных лицах пророков. Но мысль о том, что он может врачевать сердца – о том, что он считал долгом человека перед своим состраданием и перед творцом мироздания, – перевешивала горечь уходящего времени. И еще эта мысль была связана с не совсем чистой гордостью тем, что углями своей души он может – хоть немного – залатать несовершенство окружающего мира. Да и слова благодарности казались ему наградой, а клятвы в преданности – залогом на будущую вечность. «Потому что и мне, – говорил Исаак, – может когда-нибудь потребоваться тепло чужого сердца». И только однажды он усомнился; но усомнившись однажды, стал сомневаться все больше.
Он проходил через деревню у подножия Кармеля, в которой уже когда-то побывал, и та же самая девушка попросила ее исповедовать – «и еще того же волшебного огня». Он отдал ей еще один уголек и с горечью понял, что их действия хватает лишь ненадолго. Но она снова благодарила его. Тогда он решил узнать, что же стало с другими осколками его сердца. Он снова шел по городкам, замкам и деревням Галилеи, но утешенные либо не узнавали его, либо стремились скрыться в домах своего вновь обретенного счастья; безутешные же с жадностью просили еще. И только тогда он увидел, что его плошка с углями почти пуста. Исаак решил быть осмотрительнее, но все равно – каждый раз – не мог устоять перед словами человеческой боли; те же, кому он отказывал, теперь обращали к нему ожесточившееся лицо гнева. Но еще хуже было другое. Он узнавал, что угли, отданные им, совсем не всегда служили душе. Оправившись от боли, их использовали для зажигания свечей, растопки печей или освещения ночных троп; расчетливые продавали их торговцам, дарили важным и нужным людям, неразумные выбрасывали в кучи мусора. Некоторые даже топтали их, сочтя сатанинским наваждением, или же каялись и просили наложить на себя епитимью. В одной из деревень ему рассказали про дом, сгоревший от негаснущего огня, подкинутого соседом; в другой – о купце, торговавшем золотыми украшениями и десятком таких огней. Когда он возвращался домой, та же девушка с глазами, полными боли, попросила его дать ей огня в третий раз. Он развязал узел и показал ей пустую плошку. Ее глаза наполнились ненавистью. «Вот он, вот он, – закричала она, – жадный торговец ложным огнем». На Исаака спустили собак, и ему пришлось бежать, а потом отбиваться монашеским дорожным посохом, пока не подошел кто-то из стариков и не прогнал собак и их хозяев. Он почувствовал, что измотан дракой с собаками, но еще больше – обидой и разочарованием, и заночевал в караван-сарае. Но ночью его снова разбудили. Это была та же самая женщина; тихим взвинченным голосом она говорила каким-то невидимым людям: «Он где-то здесь. Не ушел далеко. У него еще много огня. Но он не отдает его. Я бы хотела видеть его мертвым», – и они что-то нежно шептали ей в ответ. Наутро ему пришлось присоединиться к группе рыцарей, возвращающихся в Хайфу.
Исаак вернулся в замок Рушмия и сразу же вошел в часовню. Неоконченные фрески смотрели на него с укоризной; ангелы и апостолы продолжали говорить о вечности; пороки и добродетели поворачивали к нему свои крестьянские лица. В замке Исааку сказали, что его давно уже сочли мертвым – и за время его отсутствия нашли другого художника, который должен приехать со дня на день. По тропе он спустился в город, зашел в синагогу, заглянул в глаза своих львов и своих листьев, потом обошел свои церкви, и нарисованное им показалось ему бесконечно, пронзительно далеким. Он заночевал на постоялом дворе, а наутро поднялся назад, на Кармель, по тропе перевалил через хребет, спустился в долину Сиах. Он узнавал свою руку во всем, что окружало его в монастыре, – и хотя поначалу ему показалось, что в его фресках нет жизни, он вдруг понял, что жизнь ушла не из них, а из него самого. Тогда он вернулся в замок, в сумерках поднялся на донжон и стал ждать, пока покажется этот ярко-желтый перевернутый полумесяц. Потом спустился в часовню. Он представил себе, как какой-то пришлый маляр начнет дописывать его фрески, в которых он хотел сохранить вечность, и ему стало грустно. Взгляд остановился на надписи над дверью; «Бог сохраняет все», – повторил он одними губами. Потом повернулся к единственной законченной фреске. На ней уже лишенный тела сын Марии из Назарета разговаривал с непримиримым иерусалимским раввином, на лице которого лежал неожиданный отпечаток смятения и страха. На секунду коробочки внутреннего театра ожили и пришли в движение. Исаак знал, что сейчас слышит этот человек, повернувший обратно на той самой пустынной равнине на пути в Дамаск. Через несколько минут его взгляд остановился на соседней фреске, еще требующей напряжения и души, и рук. «Куда ты идешь?» – спросил Исаак сам себя, достал из узла пустую деревянную плошку, обнял ее, опустил голову и заплакал. Но в груди было тихо и пусто. Так он стал белым монахом.
Сказка четвертая. Про Беньямина из Туделы и нашествие бабуинов
Во второй половине двенадцатого века – вероятно, где-то между 1159 и 1172 годом – Беньямин сын Ионы из города Тудела на северо-западе Испании пересек Евразию и, таким образом, стал первым европейцем, достигшим Индии и Китая. Его путешествие было описано в книге, известной сегодня как «Книга путешествий рабби Беньямина» и содержащей – среди многочисленных сведений, касающихся той эпохи, – достаточно подробные описания Палестины. На русский язык «Книга путешествий» была переведена во второй половине девятнадцатого века и издана в 1881 году в сборнике под несколько странным названием «Три еврейские путешественники». В Хайфу – которую Беньямин из Туделы называет Хефа и упоминает, что ее также называют Нефасой, – он прибыл из Тира ливанского. По дороге он останавливался в Акко – или Акре на языке того времени, – где, по его словам, он обнаружил небольшую еврейскую общину из двухсот человек, во главе которой стояли рабби Цадок, рабби Иафет и рабби Иона. Из Акры Беньямин отправился в сторону горы Кармель, среди достопримечательностей которой упомянул реку Кишон у подножия горы, пещеру Ильи Пророка, церковь невдалеке от пещеры, остатки жертвенника времен царя Ахава и множество еврейских захоронений талмудического периода, часть из которых сохранилась на территории Хайфы и сегодня. Однако парадоксальным образом наибольшее впечатление на рабби Беньямина произвела не пещера пророка и даже не древний жертвенник, а удивительная популяция бабуинов, населявших кармельские леса. Нарушая свои обычные правила лаконичности, он посвящает несколько страниц их подробному описанию.
По всей вероятности, эта популяция действительно была в высшей степени примечательной, поскольку ее почти всегда упоминают и так называемые «христианские итинерарии» – путевые книги, предназначенные для паломников, направляющихся в Святую землю. Так, нотариус Бургхардт, служивший при Фридрихе Барбароссе, сообщает о том, что леса Палестины кишат бабуинами, жизнь которых он имел возможность наблюдать вблизи Кармеля. Он достаточно подробно описывает их повадки, хотя и уточняет, что наиболее хитрыми, непредсказуемыми и опасными для человека являются бабуины иерусалимские. Дитмар из Мерсебурга побывал в Хайфе – которою он также называет Порфирией – в те времена, когда город был почти полностью разрушен – как он утверждает, «сарацинами». Он пишет, что на Кармеле обитают львы, леопарды, медведи, волки, олени, серны, дикие козы, животное «свирепое и еще более ужасное, чем лев», которое местные жители называют «лонзан»; но все же и он выделяет бабуинов и павианов, про которых сообщает, что их обычно называют «лесными собаками».
В том, что палестинские бабуины – с их удивительной стадностью – производили на европейского путешественника неизгладимое впечатление, нет ничего удивительного. Действительно, популяции животных, до такой степени напоминающие человеческие сообщества, в Европе того времени не были известны и – более того – по всей вероятности, были с трудом представимы. Книга «Легенды Святой земли», изданная в 1906 году под редакцией Мармадуке Пикталя, даже сообщает, что в бабуинов превратились жители Акабы, не соблюдавшие субботу, однако это сообщение едва ли можно счесть достоверным. Впрочем, и задолго до Пикталя – со смесью удивления, восхищения и некоторого недоверия – европейские путешественники описывали удивительную рациональность поведения бабуинов – почти безупречную корреляцию их поведения со вполне однозначно обозначенными целями – и их видимую способность планировать свои поступки с оглядкой на достаточно значительный промежуток времени. В некоторых смыслах – о которых пойдет речь ниже – способность бабуинов подчинять свое поведение рациональной цели представляется совершенно удивительной. И все же следует сразу же уточнить: согласно описаниям, оставленным путешественниками, цели бабуинов обычно ограничивались теми, которые лежали в плоскости личного удовольствия, питания, спаривания, самосохранения и преумножения коллективных образов стадности.
Подобная удивительная рациональность – часто превосходящая человеческую – проявляется в первую очередь в формах охоты, привычной для бабуинов. Обычно бабуин становится агрессивным либо в стаде, либо при столкновении с заведомо слабейшим противником. При иных обстоятельствах поведение бабуина может содержать скорее элементы символической агрессии – агрессивные и неприязненные жесты, злобное шипение, – не переходящие, однако, к собственно охотничьей активности. Впрочем, подобная рациональная оценка противника характерна и для многих других животных. В то же время, в отличие от большинства животных, в тех случаях, когда нечто, представляющее ценность для бабуина – будь то еда или предметы, на которые направлены иные его желания, – находится в руках противника равного или сильнейшего, бабуин будет склонен скорее просить, нежели пытаться отобрать силой. Во многих подобных случаях бабуин будет стараться подойти поближе, старательно копируя движения обладателя желанного предмета и даже пытаясь почесать ему спину. Впрочем, если этот обладатель засыпает, поведение бабуина резко меняется. Оно становится не только рациональным, но и решительным, и включает массу уловок для получения нужной ему вещи. Судя по рассказам путешественников, нередки были и такие случаи, когда бабуины убивали своих противников во сне. Резкие переходы бабуинов от раболепного подражания своим жертвам к приступам, на первый взгляд, неконтролируемой злобы часто упоминались в рассказах того времени. Их жертвами могли становиться и люди.
Наибольшее разочарование постигало, пожалуй, тех, кто пытался кормить бабуинов. Часто, наевшись досыта, бабуины пытались укусить руки, их кормившие, – и проделывали это с шипением и неприязнью, вызывавшими искреннее изумление. Впрочем, так происходило скорее со случайными путешественниками и паломниками. В этих случаях – как кажется, благодаря остро развитому поведенческому рационализму – бабуины понимали, что в дальнейшем эти люди не представляют для них особой ценности. Иначе складывались отношения бабуинов с местными жителями. Монахи-кармелиты из монастыря в долине Сиах рассказывали, что поначалу они пытались приручить бабуинов, подкармливая их монастырской едой. Едва ли можно представить себе занятие более бессмысленное. Пока бабуинов кормили досыта, они демонстрировали многочисленные внешние признаки глубокого расположения, радостно подпрыгивали при появлении людей и даже лизали им руки. Более того, при определенных обстоятельствах – благодаря паническому страху асоциальности и несмотря на свой почти врожденный рационализм – бабуины приводили с собой других бабуинов, для того чтобы разделить с ними избыток монастырской еды. Часто и эти бабуины тоже начинали повизгивать и подпрыгивать. Однако человеку не следовало себя обманывать в отношении смысла этих повизгиваний; подобные внешние проявления не имели ничего общего с благодарностью верной собаки.
При первых же признаках опасности бабуины исчезали из окрестностей монастыря или даже обнаруживались в лагере осаждавших. Когда же еды становилось меньше или ее запасы иссякали – а в монастыре, разумеется, бывали и голодные годы, – довольное повизгивание бабуинов сменялось криками ненависти, поистине удивительными. Более того, как это ни странно, злоба бабуинов не проходила вслед за мгновенным животным разочарованием и сохранялась надолго. Подобные эмоциональные переходы, свойственные бабуинам, не раз озадачивали монахов и становились предметом подробных описаний и споров. Еще больше их удивляло то, что особая ненависть бабуинов была направлена именно на тех людей, которые их кормили в предыдущие сытые годы. Действительно, по отношению к тем монахам, которые палками отгоняли их от монастыря и монастырских угодий, бабуины испытывали скорее страх, в то время как к тем, кто их кормил, они надолго наполнялись неугасающей ненавистью. В одну из таких голодных зим два монаха – из числа тех, кто до этого подкармливал бабуинов вопреки запрету настоятеля, – были даже растерзаны их стадом. Нет необходимости говорить, что и иная помощь бабуинам – а поначалу монахи, например, пытались спасать их от лесных пожаров – редко оставалась безнаказанной для незваных спасателей. Бабуины воспринимали помощь как естественную и им неизбывно причитающуюся, а не получая ее при других обстоятельствах, наполнялись жгучей ненавистью.
И все же наиболее удивительным является, пожалуй, то, что – согласно средневековым бестиариям – в отличие от большинства животных бабуинам была доступна достаточно сложная форма символического языка. Разумеется, абстрактные понятия практически не могли быть выражены на этом языке; да бабуины в них и не нуждались. Более того, когда путешественники пытались привлечь внимание бабуинов предметами, не имеющими непосредственного отношения к существованию последних, бабуины убегали с криками возмущения и отвращения. Ту же самую реакцию вызывали почти любые попытки передать бабуинам ту или иную информацию, не относящуюся к непосредственному кругу их экзистенциальных интересов. Впрочем, то, что воспринималось средневековыми путешественниками в качестве некоторой приземленности, характерной для склада мысли бабуинов, с современной точки зрения свидетельствует скорее об их практичности и нежелании предаваться праздным построениям и фантазиям, столь характерным для средневекового человека. В то же время круг понятий и символических средств, необходимых для выражения социальной организации в сообществе бабуинов, был чрезвычайно богат. Более того, некоторые путешественники не без изумления отмечали его превосходство над аналогичным инструментарием, находившимся в распоряжении человека того времени – и в особенности человека странствующего и поэтому не являвшегося интегральной частью какого бы то ни было нерушимого сообщества.
Согласно описаниям путешественников, базисной ячейкой сообщества бабуинов является парность. Многие путешественники отмечали, что одиноко пасущийся бабуин постоянно испытывает смутное чувство тревоги – часто переходящее в нервные движения и судороги, – пока не достигает подобного социального спаривания. У некоторых бабуинов стремление к парности может оказываться сильнее чувства голода, жажды и даже самосохранения, несмотря на то что последнее у бабуинов развито чрезвычайно сильно. В тех же случаях, когда двум одиноко пасущимся бабуинам удается сформировать стабильную спаренную ячейку, они обходят по кругу других бабуинов – и в особенности тех, кому удалось спариться раньше, – бьют себя кулаками в грудь, повизгивают и чешут друг другу спину. Как кажется, самки склонны к подобному поведению в несколько большей степени, нежели самцы. Любопытно, что это часто происходит и в тех случаях, когда такие «собабуиненные» ячейки существуют крайне недолго. Более того, удивительным образом в некоторых случаях подобное ликование бабуинов передается и тем их соплеменникам, которые в данный момент не проходят процесс социального спаривания. В таких случаях другие бабуины – число которых может достигать пятисот особей – собираются толпой вокруг новообразовавшейся пары, прыгают, подкидывают в воздух еду, покусывают друг друга, визжат, воют и издают иные звуки, смысл которых путешественникам понять не удалось. Им также не удалось установить, в каких случаях спаривание бабуинов приводит к подобному массовому ликованию части стада.