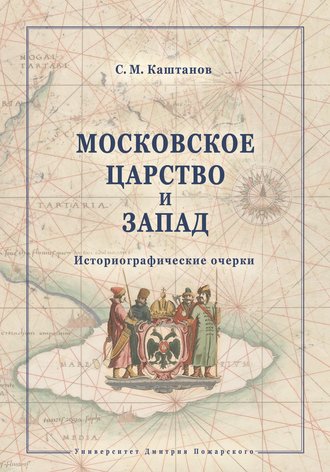
Полная версия
Московское царство и Запад. Историографические очерки
Льготы, по мнению Горчакова, распространялись не на все земли митрополии, а лишь на «отдельные участки». Прекращение действия грамоты приводило к тому, что прежде льготные земли «входили снова в те общие отношения к государству, из которых они были изъяты грамотою». Таким образом, жалованная грамота фигурировала в схеме Горчакова в роли создательницы иммунитета[64].
Большой интерес представляет третье течение в историографии жалованных грамот периода революционной ситуации 1859–1861 гг. Накануне отмены крепостного права проблема вотчинной власти феодалов была животрепещущим вопросом, к решению которого весьма своеобразно подошел один из видных теоретиков славянофильства К. С. Аксаков. В основе его концепции лежала мысль о господстве общинного начала в средневековой Руси. Аксаков отрицал факт существования феодальной собственности на землю: «Значение вотчинников не было значение собственников»[65]. Вотчинник, по мнению Аксакова, являлся не господином, а должностным лицом, чем-то вроде наместника: «Вотчинник имел государственное значение и потому не был господином, барином. Он был похож на тех мужей, которым в первой древности раздавали города в управление, даже на князей удельных»[66]. В соответствии с этим взглядом К. С. Аксаков рассматривал все податные и судебные привилегии вотчинников как кормления, полученные ими от князей.
Свою точку зрения Аксаков изложил совершенно конкретно: «Есть выражение: с судом и с данью. Очевидно, что вотчинник судил крестьян и людей своих не своим произвольным, но установленным государственным судом и брал за суд определенные пошлины, в чем состояла выгода вотчинника»[67]. Но раз вотчинник не был барином, собственником, значит, крестьяне являлись свободными людьми. Разобрав многие жалованные грамоты, изданные в «Актах Археографической экспедиции» и в «Актах исторических», Аксаков кратко резюмировал: «Видно из актов, что крепостные деревни имели все права свободных»[68]. Государство же в схеме Аксакова выступало в роли надклассовой силы. В итоге получалась, таким образом, иллюзия полной гармонии интересов государства и народа. Концепция Аксакова содержала в себе самое последовательное и прямолинейное отрицание факта наличия феодализма в древней Руси: отрицалась, во-первых, феодальная собственность на землю, во-вторых, экономическая и политическая власть феодалов в качестве атрибута феодальной формы земельной собственности. Использование жалованных грамот славянофилом Аксаковым имело ярко выраженную политическую заостренность[69].
Внешне концепции Чичерина и Аксакова представляли собой две взаимоисключающие крайности[70]. Если Чичерин сводил феодальный иммунитет к частному праву, то Аксаков рассматривал иммунитетные привилегии лишь как проявление публичного права. Феодальные порядки модернизировались Чичериным по образцу чисто буржуазных отношений, теория же Аксакова идеализировала феодальный строй, изображая его свободным от частной собственности. Схема Аксакова возникла в качестве реакции на классовую борьбу крестьянства в условиях, когда отмена крепостного права стала исторически неизбежной. Между взглядами Аксакова и буржуазной теорией Чичерина было значительное внутреннее единство: культ государства, признание лишь его правомочным органом для осуществления реформы, точка зрения относительно важности для феодалов сеньориального суда только как доходной статьи, кормления. Вместе с тем, если Чичерин, отвергая тезис о публичном характере власти феодала в период «свободы» крестьян, подводил читателя к выводу, что в условиях «свободы» помещики не нужны в качестве организаторов народной жизни, то Аксаков своей теорией публичных функций помещика поднимал авторитет феодального сеньора, изображал его необходимым должностным лицом, а ренту и судебные пошлины – вознаграждением за исполнение общественной службы. Таким образом, по Аксакову, помещик должен был стать центральной фигурой в политической жизни пореформенного периода, руководителем и попечителем освобожденных крестьян. Создание дворянского института мировых посредников Аксаков поэтому вполне мог бы рассматривать как непосредственный вывод из его теории.
С теорией Аксакова совпадает в главных чертах концепция другого славянофила – И.Д. Беляева, выступившего в 1859 г. с известной монографией о крестьянах. Беляев считал русских крестьян равноправным классом общества вплоть до I ревизии и последующих законов Петра III и Екатерины II[71]. Признавая их гражданскую свободу, «полную собственность на землю»[72], Беляев по существу отрицал наличие феодальной собственности на землю. В отличие от статьи 1850 г., где автор связывал вотчинные права на сбор пошлин с землевладением, в монографии 1859 г. привилегии, даваемые по жалованным грамотам, рассматривались как «исключение», не составлявшее общего правила[73]. Источник свободы крестьян Беляев, в противоположность Чичерину, видел в их прямой связи с государством. Когда же в XVIII в. помещик стал ответственен за крестьян в податном отношении, с крестьянина «спали государственные непосредственные обязанности, а с тем вместе он утратил и все права как член государства», возникло «страшное разобщение крестьянина с государством, между им и государством стал господин»[74], манифест о вольности дворянства, порвав последнюю связь крестьян с государством, превратил их в полную частную собственность[75].
Считая определяющим в положении крестьян отношение их к государству, Беляев, естественно, не мог оценить иммунитет как форму феодального господства. По его мнению, право вотчинного суда и расправы второй половины XVII – начала XVIII в. «нисколько не уничтожало гражданской личности крестьян»[76], «самим крестьянам суд владельца был не противен»[77]. В основе этой концепции лежало представление о феодале как наместнике, агенте княжеской власти, опекуне – представление, наиболее четко сформулированное Аксаковым.
После реформы 1861 г. в рамках той общей схемы, которую выработала буржуазная историография во второй половине 50-х годов, мы не наблюдаем обилия новых вариантов теории иммунитета. Принципиально новой и плодотворной была лишь вскользь брошенная И. Е. Андреевским мысль о влиянии возникавшей крестьянской крепости на выдачу несудимых грамот. Андреевский не являлся сторонником старой теории автогенного происхождения иммунитета, он рассматривал наместничье управление как первичное по сравнению с привилегиями, как «общий закон и правило», которые постепенно (уже с XIV–XV вв.) подкапывались «частным законом, привилегией». В этом проявилась его принадлежность к государственной школе. Но причины предоставления жалованных грамот Андреевский освещал иначе, чем историки конца 50-х годов. Указывая главные «основания», вызвавшие появление жалованных грамот, он писал: «Начавшие уже поселяться элементы крепости, начала фактической зависимости земледельцев от владельца земли, на которой они сидели, давали повод такому владельцу, вначале только приближенному к князю, а потом и каждому, который мог дойти до князя, просить об освобождении его земли и всех людей, ее населявших, от наместника… На этом же основании родился обычай, при пожаловании кого-нибудь землею, давать ему вместе с тем и освобождение от наместника»[78]. «Общее правило наместничьего управления делается мало-помалу исключением и приводит к необходимости заменить его началом новым, которое бы более соответствовало новому порядку вещей», – говорит несколько выше автор[79]. Значит, «частные законы», привилегии, создали «новый порядок вещей».
Подобные взгляды получат развитие только в 80-х годах, особенно в работах Сергеевича, впоследствии у Дьяконова. В 60-х же годах точку зрения Андреевского критиковал А.Д. Градовский с позиций славянофильской концепции. В 60-х годах под влиянием той крепостнической формы, в которую вылилось освобождение крестьян, в буржуазной историографии возобладала схема Аксакова. Наоборот, концепция Чичерина начала подвергаться критике. У Градовского наблюдается попытка примирить крайности мировоззрений Аксакова и Чичерина. Градовский не отрицал существования собственности землевладельцев на землю, но он отрывал от нее вытекавшие из феодальной структуры землевладения права.
Главная задача Градовского заключалась в попытке доказать ненужность революций в России в силу коренного отличия ее истории от истории стран Западной Европы. Идеалом государственной жизни Градовский считал непосредственные отношения между государством и народом.
В феодальной Европе таких отношений не было, так как между королем и народом стояло феодальное баронство, обладавшее реальной властью в провинции. Поэтому идея государственного единения была на Западе революционной идеей – без революции, т. е. без ликвидации власти местных феодалов, там нельзя было добиться приближения народа к центральной власти. В Московской же Руси земельные собственники не приобрели значения местной власти, здесь господствовало земское начало и самоуправление, существовала близость народа к правительству. Революция, значит, России не нужна: достаточно вернуться к прежнему земскому духу, а после раскрепощения сословий это получается само собой; сословное деление, бывшее результатом временного закрепощения сословий, теперь теряет свой смысл, открывается дорога к бессословному обществу[80]. Таким образом, Градовский шел в русле идей буржуазно-помещичьего либерального земского реформаторства 60-х годов. Какими же аргументами доказывал он отсутствие политической власти у русских средневековых землевладельцев?
Градовский механически разделял права феодала по отношению к крестьянам на две группы: 1) экономические права, вытекавшие из поземельных отношений (оброк и т. п.), которые не давали владельцу никакой политической власти[81]; 2) привилегии, жаловавшиеся грамотами в порядке исключения, которые носили характер кормления, не связанного с самим правом земельной собственности[82]. Таким образом, отношения буржуазной аренды, с одной стороны, система государственного кормления – с другой, – вот картина социально-политических отношений в русской деревне удельного времени по Градовскому. Появление жалованных грамот Градовский объяснял, во-первых, кормовым значением привилегий, во-вторых, желанием ограничить власть наместников[83]. С созданием централизованного государства, по мнению Градовского, роль феодалов как органов местной власти совершенно упала[84]. Концепция иммунитета, развитая Градовским, была направлена против теории автогенного иммунитета Неволина, отчасти против взглядов Чичерина и Андреевского. В основе его теории иммунитета лежала схема Аксакова.
Русские сознательные и стихийные последователи Аксакова не случайно увлеклись именно в 60-х годах теориями немецких буржуазных правоведов – Г.-Ф. Пухты, Р. Иеринга, К. Ф. Эйхгорна и др. Крепостнические пережитки в России и Германии в обстановке довольно активной политической борьбы за буржуазные реформы порождала там и здесь весьма близкие по своей природе попытки противопоставить политической борьбе различные формы идеологии, якобы отстаивавшей «…интересы человеческой сущности, интересы человека вообще, человека, который не принадлежит ни к какому классу и вообще существует не в действительности, а в туманных небесах философской фантазии»[85]. Схемы перечисленных немецких историков-правоведов как раз и строились на философской абстракции, ведшей исследователей к полному самоустранению от анализа социальной сущности юридических порядков прошлого.
Концепции Пухты, Иеринга и Эйхгорна послужили теоретической базой для вышедшей в 1869 г. работы Н. Л. Дювернуа об источниках права и суде в древней Руси. Дювернуа примирял теорию обычного права, толкуемого в духе немецкого идеализма, с культом государственной власти. Он утверждал, что сущность обычного права объясняется выдвинутым Пухтой тезисом – «не из действий рождаются убеждения, а из убеждений действия»[86]. Такая трактовка требовала считать само обычное право продуктом абстрактно взятого человеческого разума, т. е. в конечном счете результатом государственного правотворчества[87]. Работа Дювернуа показала возможность органического сосуществования концепций Аксакова и клерикалов типа Горбунова и др. Дювернуа возражал против выдвинутого Чичериным отождествления политических прав феодалов с частной собственностью и вслед за Аксаковым рассматривал землевладельца как княжеского наместника. Вместе с тем Дювернуа целиком поддерживал развитое Чичериным положение о том, что иммунитет – личная милость князя: «Жалованные грамоты имеют характер в высшей степени случайный и условливаются чаще всего личной милостью»[88]. В качестве мотивов выдачи жалованных грамот Дювернуа называл уже отмечавшиеся Милютиным и Горбуновым основания: во-первых, благочестивые цели, во-вторых, стремление «увеличить количество податных сил».
Итак, изучение жалованных грамот в период революционной ситуации имело актуальное политическое значение. Именно тогда появились первые специальные труды (Горбунова, Милютина, Аксакова), целиком или в значительной своей части посвященные жалованным грамотам. Работы, вышедшие на рубеже 60-х и 70-х годов (Дювернуа, Горчакова), уже не представляли собой систематических обзоров правового содержания жалованных грамот[89].
Рост интереса к жалованным грамотам в годы революционной ситуации и спад его с 1862–1863 гг. находятся в связи с аналогичными явлениями в других отделах русской дипломатики. Так, 1861 г. оказался кульминационным моментом увлечения ханскими ярлыками, после которого они специально не изучались вплоть до XX в. Ханские ярлыки ярко отражали систему феодальных прав и привилегий. Но не только этим привлекали они внимание буржуазных источниковедов. Крепостное право XIX в. в какой-то мере ассоциировалось с порабощением народа иностранцами[90], поэтому исследование ханских ярлыков накануне отмены крепостного права было не менее актуальным, чем изучение жалованных или губных грамот[91]. А. А. Бобровников, издавший свою работу в 1861 г., связал вопрос о ярлыках с вопросом о так называемых монгольских подписях на русских актах. Он пришел к выводу, что эти подписи были сделаны не монгольскими чиновниками, а митрополичьими дьяками. С установлением этого факта, заключал Бобровников, «падает и вся теория о контроле ханских чиновников над нашими внутренними и частными делами»[92].
Категорический вывод Бобровникова относительно свободы России от татарского ига явно перекликался с заявлениями Аксакова о свободе крестьян от крепостного права в древней Руси. Буржуазная историография периода революционной ситуации упорно искала свободу в прошлом, чтобы обосновать необходимость освобождения в настоящем. Сходные тенденции проявились и в дипломатике частных актов[93]. Н.В. Калачов, публикуя и анализируя четыре порядных грамоты конца XVII в., стремился, подобно Аксакову, обосновать мысль о существовании известной свободы крестьян[94]. После реформы изучение частных актов надолго заглохло (до 90-х годов XIX в.).
Подготовка реформы повлияла и на понимание национального аспекта проблемы происхождения иммунитета. Возникла трактовка иммунитета как обычая, привнесенного из-за границы (Милютин, Горбунов). Годы революционной ситуации характеризуются расширением кругозора русской историографии. Поиски новых путей развития страны заставляли серьезно оглянуться на историю и пример других государств. С правдоподобными теориями естественно-исторической школы, доказывавшей самобытное происхождение русских институтов, было в основном покончено. Реформа развеяла в какой-то мере представление об исключительно самобытном пути развития России. Стали отыскивать все с большей и большей тщательностью общие моменты истории западных стран и Руси. В связи с увлечением иностранной историей, иностранными источниками и попытками рассмотреть судьбу России в свете мировой истории появилось новое преувеличение роли переводных византийских и западных сочинений, а также иностранных обычаев на Руси[95]. Это отрицательно сказалось на трактовке происхождения иммунитета, однако имело и некоторое положительное значение: русский иммунитет был, наконец, назван словом «иммунитет» (в работах 1869–1871 гг. – Н. Дювернуа[96] и М. Горчакова[97]) и данным определением ставился в ряд аналогичных явлений, известных истории других стран.
Интересен развивавшийся в конце 50-60-х годов тезис об исключительном, случайном характере выдачи жалованных грамот и обусловленности ее лишь милостью князей. Здесь был совершенно искажен подлинный смысл выдачи жалованных грамот. Вместе с тем из рассматриваемого тезиса мог быть сделан один правильный вывод: жалованные грамоты играли политическую роль, устанавливая определенные отношения между правительством и влиятельными феодалами. Конечно, еще Неволин расценивал выдачу жалованных грамот как ограничительную политику княжеских правительств. Однако у него была намечена лишь самая общая причина предоставления иммунитетных актов. В историографии же изучаемого периода предполагались априори каждый раз особые причины выдачи жалованных грамот, хотя понимались они крайне идеалистически и на деле совершенно не исследовались, оставаясь тоже общей фразой.
Подспудное угадывание более конкретного политического значения жалованных грамот связано с общей перестройкой русского источниковедения в годы революционной ситуации. Преувеличение роли государственной власти породило большее внимание к ее политике, чаще стали говорить о политических причинах возникновения отдельных памятников. Это особенно заметно обнаружилось в историографии летописей. Если в 50-х годах И. И. Срезневский и М. И. Сухомлинов считали, что летописи создавались просто из потребности помнить, ради чистой истины, то уже Н. И. Костомаров в 1862 г. подчеркивал политические мотивы составления летописей[98].
Коснемся, наконец, методики изучения жалованных грамот в конце 50-х – начале 70-х годов. Наряду с обычным иллюстративным методом, проявившимся в трудах Аксакова, Дювернуа, Горчакова, в источниковедение жалованных грамот проник метод «сводных текстов», который был основан в 40-х годах XIX в.[99], а затем получил широкое распространение, повлияв на источниковедение не только юридических[100], но и литературных[101] памятников. Сводные нормы иммунитета выводились в специальных трудах, посвященных жалованным грамотам (Милютин, Горбунов).
Сводные тексты представляли собой определенный, усовершенствованный тип иллюстративности в источниковедении. Они давали обобщение юридических норм, но обобщали статьи разновременных памятников, не показывая их развития. Подобные приемы анализа источников – типичная черта буржуазной историографии.
Критикуя одного из наиболее видных представителей немецкой исторической школы – Г. Маурера, Энгельс указывал на «остатки» у него «юридической узости, которая мешает ему всякий раз, когда дело идет о понимании развития»[102]. Отмеченная Энгельсом «привычка» Маурера «приводить доказательства и примеры из всех эпох рядом и вперемежку»[103]характеризует подавляющую массу буржуазных историков XIX в. Юридическая школа, развивавшаяся очень интенсивно в середине XIX в., была большим шагом вперед по сравнению с чисто описательными направлениями и их внешней противоположностью – «скептической» школой. Юридическая школа занималась по мере своих сил и возможностей установлением основной сути источников, отделением главного от неглавного, стремилась выяснить типичное. В то же время она не могла действительно научно раскрыть проблему типичного в источнике, так как не учитывала необходимости конкретно-исторического исследования исторических памятников и подчас обобщала явления, характерные для нескольких веков, выводя тем самым не существовавшие в действительности средние нормы.
Сводные тексты были схемой, которая помогала четче представить себе характер юридических норм, заключенных в грамотах, однако в ней вполне конкретные и разновременные акты заменялись голой абстракцией, фикцией никогда не существовавшего документа. Сводные тексты имели свое оправдание и некоторое положительное значение в моменты их возникновения, но вместе с тем, возведенные юридической школой в догму, они тормозили дальнейшее исследование актов с конкретно-исторических позиций.
70-е годы XIX в. отмечены спадом интереса к актовому источниковедению вообще и к жалованным грамотам в частности. После крестьянской реформы во всех отделах актового источниковедения, за исключением дипломатики уставных грамот, наблюдалось затишье. Издание жалованных грамот также почти заглохло[104]. Слабое внимание к жалованным грамотам в 70-х годах объясняется тем, что исследования конца 50-х – 60-х годов в основном выполнили те актуальные научные и политические задачи, которые стояли перед буржуазной историографией жалованных грамот в связи с отменой крепостного права и другими буржуазными реформами. Еще в начале 80-х годов Д.М. Мейчик писал: «Содержание жалованных грамот и общее значение их в хозяйственно-правовом быту древней Руси выяснены так полно, что в этом отношении едва ли остается чего-нибудь желать…»[105]. Он же выражал господствующую точку зрения, разделяя нигилистическое мнение Горбунова о бесполезности дальнейшей публикации жалованных грамот[106].
Тем не менее, новые проблемы, назревшие в ходе развития русской исторической мысли к 80-м годам, потребовали продолжить исследование жалованных грамот. В первой половине 80-х годов участилась их публикация[107]. Вторая половина 80-х годов прошла под знаком почти полного отсутствия новых публикаций жалованных грамот. Возможно, это стоит в связи с крайней правительственной реакцией, открыто проявившейся в середине 80-х годов XIX в. В 1885 г. власти отпраздновали столетний юбилей екатерининской жалованной грамоты дворянству, после чего для правительства стало нежелательным появление в печати старинных жалованных грамот, которые в свете историографии середины XIX в. (особенно славянофильской) легко можно было истолковать как документы, дающие всякие льготы и свободы представителям разных сословий, в том числе крестьянам[108]. В условиях нового усиления внеэкономического принуждения и возврата к пережиткам барщины такая трактовка противоречила бы интересам реакционных помещиков. Не случайно в провинциальной прессе (губернских и епархиальных ведомостях), где задавали тон местные землевладельцы и зависевшие от них церковники, жалованные грамоты почти совсем не печатались не только в 80-х, но уже и в 70-х годах XIX в.
На источниковедение жалованных грамот в 80-х годах решающее влияние оказали два обстоятельства: во-первых, возникновение экономического направления в русской буржуазной историографии, во-вторых, новое усиление крепостничества в деревне. Экономическое направление, обусловленное дальнейшим ростом капиталистических отношений в стране, было шагом вперед в развитии буржуазной науки, хотя и это течение не давало материалистического объяснения истории. Новым в подходе представителей экономического направления к историческому процессу являлось стремление выяснить объективные закономерности, отличные от таких общих и в значительной мере внешних факторов, как географическая среда и правотворчество государства. Экономическое направление было далеко от рассмотрения производственных отношений в качестве основы экономической жизни общества. «Экономизм» этого течения заключался лишь в интересе к проблемам товарного обращения[109] и к юридическому статусу различных форм частной собственности в средневековой Руси[110].
Усиление крепостнических пережитков в сельском хозяйстве определило новую постановку вопроса о том, может ли государство просто уничтожить феодальные права, а, следовательно, оно ли было источником этих прав, не кроются ли они в более объективных факторах. Таким образом, оба отмеченных момента подготовили почву для пересмотра проблемы жалованных грамот в плане поисков объективных причин их выдачи. Уже В. О. Ключевский, рассматривая феодальные привилегии как результат передачи вотчиннику князем части правительственных функций, особо отмечал при этом роль земельной собственности: «…землевладение все более становилось главным экономическим средством обеспечения их (духовенства и военно-служилого класса – С. К.) общественного положения. Привилегии, бывшие последствием их господствующего положения в обществе, теперь также переносились на эту экономическую основу»[111]. Ключевский, однако, не понимал, что именно феодальная земельная собственность порождает те порядки, которые выступают потом в виде привилегий.
Для Ключевского характерна модернизация феодальных отношений удельного времени. Он мыслил их по существу как разновидность отношений буржуазного общества. Так, Ключевский считал, что удельный князь – это не политический правитель, а хозяин: отношения между ним, с одной стороны, черными крестьянами, вольными слугами и боярами – с другой, строятся на основе частного договора[112]. Качественного различия в положении крестьян как эксплуатируемого класса, бояр и вольных слуг как класса эксплуататорского для Ключевского не существовало. Бояре и вольные слуги в его концепции – арендаторы земли у князя, отсюда и иммунитет – результат аренды: «…преимущества, которыми они пользовались, были не столько политическими или гражданскими правами, сколько хозяйственными выгодами, которыми князь вознаграждал их за оказываемые ему услуги»[113].


