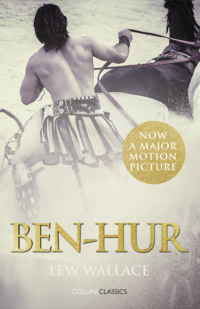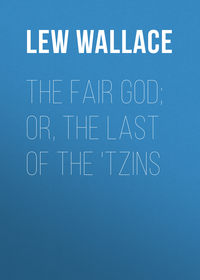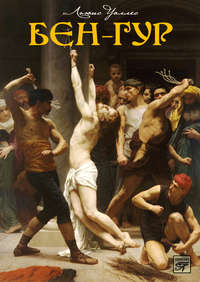Полная версия
Бен-Гур
Спустя некоторое время после того, как молодой еврей расстался с римлянином, он остановился у ворот только что описанного дома и постучался в него. Ему отперли калитку, и он поспешно вошел в нее, позабыв даже ответить на низкий салям привратника.
Проход, в который он вступил, несколько походил на узкий туннель со стенами, обшитыми панелями, и сводчатым потолком. По обеим сторонам его тянулись каменные скамьи, лоснящиеся от долгого употребления. Сделав десятка полтора шагов, он вышел во двор, окруженный фасадами двухэтажных зданий. Нижний этаж разделялся на льюины, в верхнем же были устроены террасы с крепкими перилами. Ходившие по террасам взад и вперед служители, грохот жерновов, развешенные на протянутых веревках платья, повсюду голуби и цыплята, стоявшие в льюинах козы, коровы, ослы и лошади, громаднейшее корыто с водой – все это указывало на то, что то был хозяйственный двор богатого собственника.
Пройдя его, юноша вошел в другой двор, засаженный кустарником и виноградными лозами, поддерживаемыми в постоянной красоте и свежести водой из бассейна, устроенного близ портика с северной стороны. Самая щепетильная чистота, наблюдавшаяся на этом дворе и не допускавшая ни малейшей пылинки по углам или пожелтелого листка в растениях, способствовала, быть может, более всего тому общему восхитительному впечатлению, которое производил двор, и посетитель, вдохнув в себя этот чистый воздух, мог заранее судить об утонченной жизни того семейства, что владело этим домом.
Сделав несколько шагов по второму двору, юноша повернул направо и, пройдя сквозь цветущий кустарник, приблизился к лестнице, по которой и поднялся на террасу – широкий помост, выложенный белыми и темными плитами, сильно уже истертыми. Пройдя под навес, он вошел в комнату, которую опустившийся за ним щит снова погрузил во мрак. Несмотря на темноту, он прошел по черепичному полу прямо к дивану и бросился на него лицом вниз, стиснув голову руками.
Перед наступлением ночи женщина подошла к двери и окликнула юношу. Он отозвался, и она вошла.
– Уже кончили ужинать, и ночь на дворе. Разве ты не голоден, сын мой? – спросила она.
– Нет, – отвечал он.
– Ты болен?
– Мне хочется спать.
– Твоя мать спрашивала о тебе.
– Где она?
– В летней комнате на кровле.
Он приподнялся и сел.
– Ну, принеси мне чего-нибудь поесть.
– Чего ты хочешь?
– Все равно, Амра. Я не болен, но мне все равно. Жизнь не представляется мне такой приятной, как казалась сегодня утром. Это новый недуг, о моя Амра, и мне теперь нет дела до пищи.
Амра приложила руку к его лбу и, как бы удовлетворившись этим, вышла, говоря: «Хорошо, я посмотрю». Немного спустя она вернулась, неся на деревянном подносе чашку с молоком, несколько тонких ломтиков белого хлеба, легкое печенье из пшеничной муки, жареную птицу, мед и соль. На одном конце подноса стоял серебряный кубок с вином, на другом – зажженный светильник.
При свете его можно было рассмотреть комнату: стены из гладко отесанного камня; потолок с толстыми дубовыми балками, почерневший от времени и от дождя; прочный пол из белой и голубой черепицы; несколько стульев с ножками наподобие львиных лап; невысокий диван, обитый голубой материей, с наброшенным на него большим полосатым одеялом – словом, еврейская спальня.
При том же свете можно рассмотреть и женщину. Пододвинув стул к дивану, она поставила на него поднос и стала на колени. Судя по смуглому лицу с черными глазами, глядевшими почти с материнскою нежностью, ей было лет пятьдесят. Голову ее покрывал белый тюрбан, оставляя напоказ только кончики ушей, в которых виднелись отверстия, проколотые толстым шилом, – знак ее общественного положения. Она была египтянка, рабыня из числа тех, которым даже священный пятидесятый год не приносит свободы, да она и не приняла бы ее, потому что любила юношу, которому служила, больше самой жизни. Она его выкормила, вынянчила и не могла себе представить, что он когда-нибудь сможет обходиться без ее услуг.
Во время еды она молчала.
– Помнишь ли ты, Амра, Мессалу, который когда-то бывал у меня? – спросил он. – Несколько лет назад он уехал в Рим и теперь вернулся. Я заходил к нему сегодня.
Отвращение выразилось на лице юноши.
– Я знала, что что-то случилось, – сказала она, глубоко заинтересованная. – Мне никогда не нравился Мессала. Расскажи мне все.
Он задумался и на ее вопрос отвечал только:
– Он сильно изменился, и у меня нет ничего общего с ним.
Когда Амра уносила поднос, юноша последовал за ней и поднялся с террасы на кровлю.
Читатель, вероятно, понимает значение кровли на Востоке. Климат везде является законодателем обычаев. Сирийский летний день заставляет любителя удобств удаляться в тень льюинов, но наступает ночь, и над скатами гор опускаются тени, окутывающие своим покрывалом певцов Цирцеи, но они далеко, тогда как кровля тут, рядом, и настолько приподнята над светящейся равниной, что доступна свежему воздуху, и настолько выше деревьев, что звезды кажутся ближе и ярче. И вот кровля становится местом удовольствий, спальней, будуаром. Тут собирается вся семья, играет, танцует, беседует, мечтает и молится.
Юноша медленно прошел по крыше к башне и вошел в нее, приподняв опущенную занавеску. Внутри царила полнейшая темнота, и свет проходил только в отверстия с арками по одной с каждой стороны, сквозь которые виднелось усеянное звездами небо. Он заметил фигуру полулежащей на диване женщины, одетой в белое широкое платье. При звуках его шагов опахало в ее руках остановилось, и бриллианты, которыми оно было усеяно, заблистали при свете, падающем на них от лучей звезд.
Она приподнялась, села и позвала его:
– Иуда, сын мой!
– Это я, матушка, – ответил он и ускорил шаги.
Подойдя к ней, он встал на колени, она обвила его руками и с поцелуями прижала к своей груди.
Мать и сын
Мать заняла прежнее удобное положение, склонившись на подушку, а сын присел на диван. Сквозь арку виднелись крыши зданий, горы и темно-синяя глубь неба, блиставшая множеством звезд. Над городом царила тишина. Шумел только ветерок.
– Амра говорила мне, что с тобой что-то случилось, – сказала мать, гладя сына по щеке. – Когда мой Иуда был ребенком, я допускала, что его могут беспокоить мелочи, но теперь он муж. Он не должен забывать, – голос ее сделался еще ниже, – что ему предстоит быть моим героем.
Она говорила на языке, почти забытом в стране, но который немногие, преимущественно отличавшиеся аристократической кровью и богатством, хранили во всей чистоте для явного отличия от простонародья – на языке, на котором Ревекка и Рахиль пели песни Вениамину.
При этих словах он снова впал в задумчивость, но немного спустя взял руку, которой она его ласкала, и сказал:
– Сегодня, матушка, мне пришлось передумать многое, о чем я прежде никогда не думал. Но сперва скажи мне, кем я должен быть.
– Разве я уже не сказала тебе? Ты должен быть моим героем.
Он не мог разглядеть выражения ее лица, но знал, что она шутит. Он сказал серьезно:
– Ты очень добра и ласкова, моя матушка. Никто никогда не будет любить меня так, как ты.
И он несколько раз поцеловал ее руку.
– Я, кажется, понимаю, почему ты не хочешь продолжать этот разговор. До сих пор моя жизнь всецело принадлежала тебе. Как нежна, как приятна была твоя опека, и мне хотелось бы, чтобы она продолжалась вечно. Но это невозможно. Воля Бога Иакова в том, что рано или поздно я стану самостоятельным. Настанет день разлуки, страшный для тебя день. Будем смелы и серьезны. Я буду твоим героем, но ты должна наставить меня на истинный путь. Ты знаешь, что по закону каждый сын Израиля должен иметь определенное ремесло. Я не составляю исключения и спрашиваю тебя, кем я должен быть: пастухом, земледельцем, плотником, писцом или законником? Добрая моя матушка, помоги мне разрешить этот вопрос!
– Гамалиил проповедовал сегодня, – сказала она задумчиво.
– Не знаю, я не слышал его.
– Стало быть, ты гулял с Симоном, который, как мне говорили, унаследовал гений своей семьи.
– Нет, я не видел его, я был не в храме, а на площади – у молодого Мессалы.
Перемена в его голосе не ускользнула от внимания матери. Предчувствие заставило ее сердце биться сильнее, и опахало снова перестало двигаться.
– Мессала, – сказала она, – чем он мог взволновать тебя?
– Он очень сильно изменился.
– Ты хочешь сказать, что он вернулся римлянином?
– Да.
– Римлянин, – продолжала она как бы про себя. – Для всего мира это слово означает «господин». Долго ли он отсутствовал?
– Пять лет.
Она приподняла голову, как бы вглядываясь в темноту ночи.
– Пути к славе вполне пригодны для Египта и Вавилона, но в Иерусалиме, нашем Иерусалиме, непоколебимо царит завет.
Поглощенная этой мыслью, она снова опустилась на подушку. Иуда первым прервал молчание.
– То, что высказал мне Мессала, обидно само по себе, но тон его речи был просто невыносим. Я думаю, что все великие народы надменны. Но надменность этого народа переходит все границы, и за последнее время она быстро возрастает.
– Да, – горячо прервала его мать, – уже не один римлянин требует божеских почестей.
– В Мессале всегда проступала эта дурная черта. Я замечал, что он и ребенком смеялся над иностранцами, которых сам Ирод принимал с почетом, но он всегда щадил Иудею. Но сегодня в разговоре со мной он потешался над нашими обычаями и над нашим Богом, и, конечно, ты не посетуешь на меня за то, что я окончательно разошелся с ним. А теперь, добрая матушка, я хочу знать определенно, какие основания для этого презрения существуют у римлян. Чем я ниже этого римлянина? Разве наш народ ниже других народов? К чему бы я стал в присутствии даже самого кесаря чувствовать страх раба? А главное, скажи мне, разве я, одаренный душой, не мог бы достичь всех почестей мира на любом поприще человеческой деятельности? Разве я не могу, взяв меч, подвизаться на военном поприще или стать вдохновенным поэтом? Я могу быть золотых дел мастером, пастухом, купцом. Почему же мне не быть художником, подобно греку? Скажи мне, почему сын Израиля не может делать всего, что доступно римлянину?
Мать слушала сына с глубочайшим вниманием, и ничто не ускользнуло от нее: ни предмет разговора, ни прямая постановка вопросов, ни тон, ни интонация его речи. Она приподнялась и так же быстро и горячо возразила ему:
– Благодаря окружающим Мессала в детстве был почти еврей, и, оставайся он здесь, из него, может быть, вышел бы прозелит (новообращенный): мы так много заимствуем в нашей жизни от окружающих. Но годы, проведенные в Риме, слишком изменили его. Я не удивляюсь этой перемене, но, – голос ее стал тише, – он мог бы нежнее обойтись с тобой. Только черствые, жестокие натуры могут в юности забыть друзей детства!
Ее рука опустилась на лоб юноши, и пальцы нежно и любовно гладили его волосы, в то время как ее глаза были устремлены на звезды. Ее гордость звучала не эхом, но в унисон с его чувством вследствие полнейшей их симпатии друг к другу. Она хотела ответить ему и в то же время боялась дать неудовлетворительный ответ. Допустив хоть в чем-нибудь ущербность сынов Израиля, она могла на всю жизнь подавить его дух. Она сомневалась в своих собственных силах.
– На твои вопросы, о мой Иуда, женщина не может дать ответ. Оставим это до завтра и спросим у мудрого Симона, – отвечала она.
– Не отсылай меня к нему, – прервал он ее.
– Мы позовем его сюда.
– Нет, я жажду более чем простых советов. Как бы он ни разрешил эти вопросы, он не может внушить мне того, что в силах сделать ты, о моя мать, – дать мне решимость, составляющую силу мужественной души.
Взор ее быстро скользил по небу, в то время как она старалась взвесить все значение этих вопросов.
– Если мы жаждем справедливости для себя, то мы не должны быть несправедливы к другим. Отрицать достоинства в побежденном враге – значить умалять достоинство нашей победы, и если суровый враг желает страхом сильнее поработить нас, то самоуважение обязывает нас искать истинных причин бедствий, а не услаждать себя мыслью, что он принадлежит к более низкой породе людей, чем мы.
Говоря это как бы про себя, она затем обратилась к Иуде со следующими словами:
– Слушай, мой сын: Мессала – благородного происхождения, его фамилия славится издавна. Во времена римской республики – когда именно, я не могу сказать, – эта семья отличались и на военном, и на гражданском поприще. Я могу назвать одного консула из этого семейства, члены этой семьи были сенаторами, и люди добивались их покровительства, потому что они были богаты. Но если твой друг хвалится своими предками, то ты смело мог бы пристыдить его своими. Если он ссылается на древность своего рода, на деяния, знатность и богатство своих предков, чем обыкновенно гордятся люди, не отличающиеся умом, и чем можно гордиться только в исключительных случаях, если, говорю я, он приводит все это в доказательство своего превосходства, то ты безо всякого опасения мог бы выставить любого из твоих предков, и сравнение отнюдь не было бы в пользу Мессалы.
Подумав, она продолжала:
– В настоящее время принято считать, что народ или род чем древнее, тем благороднее. Римлянин, основывая на этом свое превосходство перед израильтянином, всегда потерпит неудачу. Очень немногие римские семьи могут вести свой род с древности, да и то лишь в силу голословных преданий. Мессала, конечно, не принадлежит к этим счастливцам. Теперь рассмотрим наш род, древнее ли он.
При лучшем освещении Иуда легко заметил бы, какой гордостью дышало лицо матери.
– Если бы римлянин бросил мне подобный вызов, я без малейшего страха и сомнения ответила бы ему.
Голос ее задрожал, став особенно нежным.
– Твой отец, о мой Иуда, покоится не рядом со своими отцами, но я живо вспоминаю тот день, когда мы в сопровождении многих друзей отправились в храм для посвящения тебя Богу. Мы принесли в жертву голубей, священник в моем присутствии записал твое имя: Иуда, сын Итамара, из дома Гура. Это имя было внесено в родословную книгу священного семейства. Я не могу тебе указать на начало обычая вести эти записи: мы знаем, что он существовал еще до бегства евреев из Египта. Я слышала от Гиллеля, что Авраам первым открыл запись своим именем и именами своих сыновей в силу обета, данного ему Богом, отделившим его и его потомство от остальных народов как величайших и благороднейших избранников мира. Завет с Иаковом был таким же. «…Благословятся в семени твоем все народы земные…» – так сказал ангел Аврааму (Бытие 26:4). «Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему…» – так сказал Сам Бог Иакову (Бытие 28:13). Затем мудрый человек предусмотрел справедливое разделение земли обетованной, и дабы известно было в день раздела, кто имеет право на долю, была заведена родословная книга. Но не для одного этого. Завет, данный Богом патриарху, относится к далекому будущему. Семя его благословлялось в лице того Спасителя, который мог быть беднейшим, ибо для Бога нет различия между знатными и незнатными, богатыми и бедными. Чтобы удостоверить справедливость этого завета и воздать честь истинному Спасителю, родословная должна вестись с безупречной точностью. Действительно ли так она велась?
Опахало быстро задвигалось в руке женщины. Горя нетерпением, Иуда задал ей вопрос, вполне ли верна родословная книга.
– Гиллель уверяет, что да. Наш народ иногда отступал от закона, но никогда не забывал свято хранить родословную книгу. Добрый равви сам проследил ее в течение трех периодов: от начала обетования до открытия храма, от открытия храма до пленения и от пленения до наших дней. Однажды только, а именно к концу второго периода, запись была прервана; но когда народ вернулся из долгого изгнания, Иеровавель восстановил родословие, считая это как бы первейшей обязанностью по отношению к Богу, и тем дал нам возможность проследить непрерывность еврейского рода в течение двух тысяч лет. И теперь как смешно и ничтожно это тщеславие римлян древностью их рода! В этом отношении любой пастух из сынов Израиля благороднее избраннейшего римлянина.
– А я, матушка, кем значусь я в родословной?
– Я сейчас отвечу тебе. Мессала, может быть, подобно многим, сказал бы, что точные следы родословной прерываются взятием Иерусалима ассириянами и разрушением храма со всеми его сокровищницами. Но ты мог бы напомнить ему о благочестивом деле Иеровавеля и возразить, что на таком же точно основании и римская генеалогия прерывается взятием Рима западными варварами, владевшими им в течение шести месяцев. Вело ли государство семейные списки и что сталось с ними в эти дни разорения? Нет, нет, наша родословная книга верна, и, следя по ней до времени пленения и далее до времени построения храма и исхода из Египта, мы можем с полной достоверностью проследить наш род до Гура, сотоварища Иисуса Навина. В деле древности рода наше семейство вполне достославно. Но ты хочешь, может быть, проследить наш род далее? Возьми Тору, отыщи Книгу чисел, и ты найдешь родоначальника нашего дома в семьдесят втором поколении от Адама.
Некоторое время царила тишина.
– Благодарю тебя, моя матушка, – воскликнул Иуда, сжимая ее руки. – Благодарю тебя от всего сердца. Я был прав, не желая обращаться к доброму раввину. Он не мог бы так успокоить меня. Но чтобы семья была истинно благородна, достаточно ли одной древности?
– О, ты забываешь, что наша слава зиждется главным образом на том, что мы – избранники Бога!
– Ты говоришь о народе, а я спрашиваю тебя о нашем семействе. Что совершили наши предки со времени праотца Авраама? Какими великими делами возвысились они над соотечественниками?
Она колебалась, опасаясь, что все это время неверно понимала предмет разговора. Может быть, эти вопросы были внушены сыну одним оскорбленным самолюбием? Юность есть только та прекрасная скорлупа, внутри которой живет, постоянно развиваясь, человеческий ум. Как младенцы протягивают руки, желая схватить тень, так, может быть, и ум ее сына желает схватить неизвестное будущее. Нужно быть крайне осторожным в своих ответах на вопросы ребенка: кто я и кем должен быть? Каждое слово ответа отражается на будущности так же, как малейшее прикосновение пальцев ваятеля отражается на его произведении.
– Мне кажется, о мой Иуда, – сказала она, глядя ему в глаза, – мне кажется, что все сказанное мной было опровержением слов скорее воображаемого, чем действительного врага. Если последним является Мессала, то не оставляй меня бороться с ним в потемках. Передай мне весь ваш разговор.
Новый гимн Израилю
Иуда начал передавать матери свой разговор с Мессалой. Боясь прервать его, она слушала сына с полнейшим вниманием. Она, эта ревнивая мать, не знала, какое направление примет это пробудившееся в нем чувство оскорбленной гордости. Что, если оно удалит его от веры отцов? Ничто в ее глазах не могло быть ужаснее этого. По ее мнению, было только одно средство избегнуть несчастья, и она принялась за решение задачи. Ее речь благодаря природному дарованию была строга и в то же время поэтична.
– Никогда еще не существовало народа, который бы не считал себя, по крайней мере, равным любому другому народу, и всегда великий народ, сын мой, считал себя избранником. Если римлянин свысока смотрит на Израиль, то этим он повторяет безумие египтян, ассириян и македонян. И он поступает так же, издеваясь над нашим Богом. Нет мерила для определения превосходства народа – такие разговоры бесплодны и доказывают только пустое тщеславие. Народ мужает, достигает расцвета и затем умирает естественной смертью или от руки другого народа, заступающего на его место. Такова история. Если бы мне предложили символически изобразить Бога и человека, я начертила бы прямую линию и круг. О прямой линии я бы сказала: это – Бог, ибо Он один предвечно движется по прямому пути, а о круге – это человечество, таков его прогресс. Я не могу сказать, что судьбы народов одинаковы. Нет, каждый совершает свой круг, но различия состоят не в величине круга, как предполагают многие, и не в обширности пространства, заселяемого известной нацией, а в направлении ее движения. Направление, устремленное ввысь, приближает ее к Богу.
Остановись я на только что сказанном, ты упрекнул бы меня в том, что я почти ничего не прояснила, и потому пойдем далее. Существуют несомненные признаки, определяющие направление движения, совершаемое известной нацией. Сравним, например, евреев с римлянами: достаточно заметить, что Израиль только порой забывал Бога, Рим же никогда не видел Его – в этом отношении сравнение между ними немыслимо.
Твой друг, или, вернее, твой бывший друг, если я верно тебя поняла, обвиняет нас в том, что у нас не было поэтов, художников и полководцев. Этим он, очевидно, хочет сказать, что у нас не было великих людей, составляющих еще один признак величия народа. Чтобы решить, насколько справедливо это обвинение, нужно предварительно точно определить, что следует разуметь под словом «великий человек». Велик, мой мальчик, тот, чья жизнь доказывает, что он был прямым или косвенным орудием Бога. Один перс был призван покорить наших отцов за их вероотступничество, и он увел их в плен. Другой перс был избран для возвращения детей на их землю обетованную. Но более велик, чем оба они, тот македонянин, который служил орудием мщения за разорение Иудеи и храма.
Господствует мнение, что военное поприще – самое благородное для мужей. Пусть мир заражен этой идеей, но ты не ослепляйся ею. Люди должны поклоняться чему-нибудь до тех пор, пока существуют явления, которых они не в силах объяснить. Мольба варвара есть вызванный страхом призыв к силе, единственному божественному свойству, ясно им понимаемому, отсюда его поклонение героям. Сам Юпитер не более как римский герой. Грекам принадлежит великая слава почитать ум выше силы. Афиняне чтили ораторов и философов выше полководцев. Люди, одерживавшие победы в беге и езде на колесницах, оставались героями арены, но бессмертная слава была уделом только гениальных поэтов. Семь городов оспаривали друг у друга славу быть родиной одного из них. Но были ли греки первыми, отвергнувшими старую веру варваров? Нет, эта слава, сын мой, принадлежит нам. Грубой силе наши праотцы противопоставили Бога. Этим евреи и греки возвысили человечество и двинули его вперед. Но – увы! – Рим превыше разума и Бога воздвигает трон кесаря. Это олицетворение грубой силы, не допускающей иного величия.
Греческий период – время процветания гениев, одаривших мир многими великими мыслителями. Греки, пользуясь полной свободой развития, достигли на всех поприщах, кроме военного, такой степени совершенства, что даже римляне принуждены довольствоваться подражанием им. Греки служат образцами для ораторов форума. Прислушайся – и в любой римской мелодии ты услышишь греческий размер. Если римлянин мудро говорит о нравственности или о тайнах природы, то знай, что он или воспитывался в греческой школе, или украл это у кого-нибудь из греков. Во всем, за исключением военного ремесла, Рим является только подражателем. Его игры и увеселения – греческого происхождения, но с примесью кровавых зрелищ для удовлетворения зверских инстинктов черни. Его религия состоит из осколков верований других народов, его наиболее чтимые боги, не исключая Марса и Юпитера, олимпийского происхождения. Сын мой, во всем мире только один Израиль может оспаривать пальму первенства у греков и вместе с ними предъявлять права на звание самобытного гения.
Грубое тщеславие римлян кажется мне самоослеплением. О безжалостные завоеватели! Под их пятой, под которую попали и мы, стонет земля. Римляне занимают у нас высшие, священнейшие места, и никто не знает, где конец их игу. Но я верю и знаю, что хотя бы они и раздавили Иудею, разрушили Иерусалим, слава израильских мужей останется тем вечным светом, озаряющим человечество, погасить который никто не в силах, ибо история мужей Израиля есть история Бога, водившего их рукой при писании священных книг, говорившего их устами и творившего все доброе, сделанное ими. Кто был их законодателем на Синайской rope, проводником в пустыне, вождем в битвах, царем-правителем на троне? Кто не раз разверзал завесу, скрывающую Его небесную обитель, и, как человек, говорящий со своими собратьями, указывал им истину, путь к счастью, учил, как жить, и при Своем всемогуществе давал им обеты и скреплял клятвой Свой вечный завет с ними? О сын мой, мыслимо ли, чтобы ничего божественного не заимствовали от Него те, к кому так благоволил Иегова, к кому Он снисходил, кто находится в постоянном общении с Ним, чтобы в складе их жизни и в делах человеческое не было слито с божественным и чтобы гений их даже по прошествии веков не сохранил в себе эту долю божественного!
Только движение опахала некоторое время нарушало тишину.
– Правда, в области живописи и ваяния Израиль не имел выдающихся художников, – сказала она тоном сожаления, потому что принадлежала к саддукеям, допускавшим, в отличие от фарисеев, проявление во всевозможных формах чувства прекрасного. – Но не следует забывать, что, во-первых, наши руки были связаны запрещением «Не делай себе кумира и никакого изображения…» (Исход 20:4). Во-вторых, задолго до того времени, когда Дедал появился в Аттике и своими деревянными статуями совершил переворот в скульптуре, породивший школы в Коринфе и Эгине с их великими творениями – Портиком и Капитолием, задолго до Дедала сердца двух израильтян, Веселеила и Аголиава, строителей первой скинии, были «исполнены… мудростью, чтобы делать всякую работу…» (Исход 35:35). Они сделали, между прочим, на обоих концах крышки ковчега двух херувимов из золота чеканной работы. Кто скажет, что они не были прекрасны или что они не были первыми статуями?