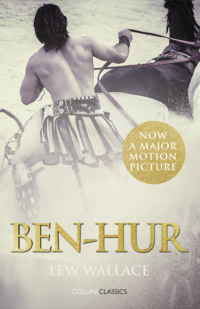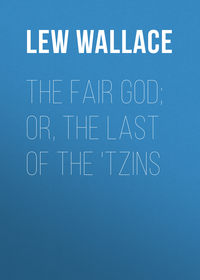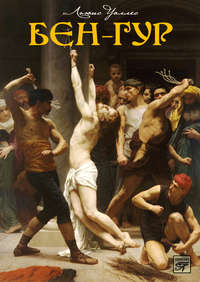Полная версия
Бен-Гур

Льюис Уоллес
Бен-Гур
© ООО «ТД Алгоритм», 2016
Часть 1[1]. В пустыне
Горный хребет, простирающийся в длину не менее чем на пять-десять миль, настолько узок, что причудливыми очертаниями своей вершины напоминает гусеницу, как бы ползущую с юга на север. Стоя на его скалах лицом к восходу солнца, видишь перед собой только голую Аравийскую пустыню, в которой беспрепятственно господствуют восточные ветры, столь ненавистные иерихонским виноградарям. Подошва Джебеля со стороны протекающего в том же направлении Евфрата плотно покрыта наносным песком, а сам хребет служит защитой для пастбищ Моавии и Аммона, раскинувшихся к западу и некогда представлявших собой пустыню.
Каждому местечку на юге и востоке Иудеи арабы дали имя. Старый Джебель на их языке означает родоначальника бесчисленных канав, во всех направлениях пересекающих покрытую густым слоем пыли римскую дорогу, по которой паломники и теперь направляются в Мекку и обратно. Глубокие канавы во время дождей становятся руслами потоков, стремящихся в Иордан или, вернее, в главное вместилище вод этой страны – Мертвое море.
В одной из таких вымоин, в дальнейшем становящейся руслом небольшой реки Иавок, показался путешественник Конечно, внимание читателя остановится прежде всего на нем.
По наружности ему, пожалуй, можно было дать сорок пять лет. Спускавшаяся на грудь широкая борода, некогда совершенно черная, теперь была с проседью. Лицо, напоминавшее поджаренное кофейное зерно, почти совсем скрывалось под красной кёфией (арабский традиционный головной убор). По временам путник устремлял свой взор в пространство, и тогда можно было заметить, что глаза у него черные и большие. Одежду его составляло обычное на Востоке широкое платье. Миниатюрная палатка умещалась на спине огромного белого верблюда, на котором он ехал.
Едва ли уроженец Запада когда-нибудь будет в состоянии привыкнуть к тому впечатлению, которое овладевает им при первом взгляде на верблюда в полной упряжи, навьюченного и готового начать свое путешествие по пустыне. Сколько бы путешествий с караванами не пришлось совершить европейцу, сколько бы времени среди бедуинов он не провел, всегда и повсюду он невольно остановится перед верблюдом и уступит ему дорогу. Его очаровывает вовсе не величественная фигура животного и даже не его движения – неслышная поступь и широкие раскачивания взад и вперед. Сама пустыня оказывает своему детищу такую же любезность, какую море оказывает кораблю: своей таинственной необъятностью она придает верблюду столь сильное обаяние, что, глядя на него, мы невольно думаем о пустыне. В этом и заключается чудо.
Верблюд, показавшийся из канавки, по праву мог требовать почестей: его масть и рост, мускулистое туловище, длинная, легкая, по-лебединому изогнутая шея, голова с широким лбом, настолько сужающаяся книзу, что ее мог бы, пожалуй, обхватить женский браслет, его медленный и эластичный шаг, уверенная и беззвучная поступь – все изобличало в нем сирийскую кровь, столь же древнюю, как мир, и по цене не имеющую себе равной.
Приспособление, помещавшееся на спине животного, представляло собой изобретение, которое у любого другого народа, кроме восточного, не принесло бы известности изобретателю. Оно состояло из двух деревянных ящиков с навесами, внутренность которых, устланная коврами, давала возможность хозяину полулежать в них. Приспособление это прикреплялось к верблюду широкими ремнями и подпругами. Вот каким образом сыны Востока защищали себя от неудобств путешествия по выжженной солнцем пустыне.
Когда дромадер (одногорбый верблюд) выбрался из последнего изгиба канавки, граница древнего Аммона осталась за спиной путешественника. Было утро, поднималось солнце, наполовину скрытое клочковатым туманом. Перед путником расстилалась пустыня, но это еще не было царство сыпучих песков, ожидавшее его дальше. Пока что он проезжал по местности, где растительность только начинала исчезать, где там и сям виднелись бурые и серые камни вперемежку с тощими акациями и клочками травы. Дуб и терновник остались позади: они как будто вышли посмотреть на безводную пустыню и в ужасе окаменели. Стало заметно, что верблюд управляется кем-то невидимым: он то замедляет, то ускоряет свои шаги, голова его протянута по направлению к горизонту, широкими ноздрями он жадно глотает свежий воздух. Палатка покачивается на его спине, поднимаясь и опускаясь, подобно челноку на волнах. Иногда под его ногами шуршит сухая листва, скопившаяся во впадинах, и тогда воздух наполняется специфическим благоуханием. Жаворонки, каменки и скалистые воробьи вспархивают перед ним, и белые куропатки со свистом и клокотаньем торопятся прочь с дороги. Изредка встреченная лисица или гиена тоже поднимается и убегает, чтобы издали посмотреть на нарушителя своего спокойствия. Справа видны высоты Джебеля: жемчужно-серый туман, окутывающий их, постепенно окрашивается в пурпурный цвет. Выше самых высоких вершин парит коршун, распластав широкие крылья и все расширяя и расширяя круги своего полета.
В течение двух часов дромадер все шел вперед, мерно раскачиваясь и держась направления к востоку. За это время путешественник ни разу не переменил своей позы, ни разу не оглянулся по сторонам. Благодаря быстрой езде путника картина местности скоро меняет свой характер: Джебель виднеется уже на западе бледно-голубой лентой. Там и сям возвышаются кучи песка, смешанного с глиной. Кое-где базальты поднимают вверх свои скругленные вершины. Главным же фоном пейзажа становится теперь песок, то мягкий и тонкий, как на морском берегу, то имеющий вид волн, то насыпанный буграми. Вместе с ландшафтом меняется и состояние атмосферы. Высоко поднявшееся солнце, досыта напившись росой и туманом, согревает теперь ветерок, который, забираясь под навес, ласкается к путнику. Всюду, куда только может проникнуть взгляд, солнце окрасило землю в нежный молочно-белый цвет и зажгло все небо.
Верблюд все шел и шел, не уклоняясь от своего направления и не останавливаясь. Растительность совсем исчезла. Песок, настолько спаянный на поверхности, что при каждом шаге с треском рассыпался на мельчайшие частички, повсюду сохранял однообразную волнистую поверхность. Джебель уже скрылся из виду, и вместе с ним исчезла граница пустыни. Тень, падавшая прежде позади, теперь тянулась на север и даже немного забегала вперед. Все еще не было видно никаких признаков привала. Поведение путника становилось все более загадочным. Разумеется, никто не избирает пустыню местом для увеселительных прогулок – деловые люди прокладывают по ней свои тропы. Таковы дороги пустыни – от колодца к колодцу, от пастбища к пастбищу. Сердце шейха бьется сильнее, когда ему случается очутиться одному на безлюдном пути.
Можно думать, что и тот человек, о котором мы сейчас говорим, оказался здесь не в поисках удовольствий. Не похоже и на то, чтобы он убегал от кого-нибудь: ни разу он не оглянулся назад. Люди в одиночестве снисходят до товарищества с низшими существами: собака или лошадь делается другом, и ей расточают ласки и слова любви. На долю нашего верблюда пока не выпало ничего подобного: не только ласки, но даже приветливого слова.
Ровно в полдень, как будто по собственной воле, верблюд остановился, издав особенный жалостный крик, которым верблюды протестуют против излишне навьюченной тяжести, тем самым обращая на себя внимание погонщика, после чего происходит желаемая остановка.
На этот крик хозяин зашевелился, словно он только что проснулся. Откинув навес, он взглянул на солнце и долго внимательно обозревал местность. Удовлетворившись обзором, он глубоко вздохнул и несколько раз наклонил вперед голову, как будто хотел сказать: «Наконец-то, наконец!» Немного спустя он сложил руки на груди, поник головой и начал тихо молиться. Исполнив обряд, он приготовился сойти на землю. Из его гортани вылетел звук, без сомнения, знакомый и любимый еще верблюдами Иова, – тот звук, который служит им приказом опуститься на колени. Немного поворчав, животное повиновалось. Ездок поставил ногу на его гибкую шею и затем спустился на песок.
Встреча
Теперь можно подробно разглядеть фигуру путника. Он был невысокого роста, но мощен. Ослабив шелковый шнурок, поддерживающий кёфию на голове, он легким движением отбросил назад ее бахрому, при этом открылось его строгое, почти черное лицо. Широкий низкий лоб, орлиный нос, несколько приподнятые кверху внешние углы глаз, прямые, густые и жесткие волосы с металлическим отливом, падавшие бесчисленными прядями на его плечи, – все это давало возможность сразу определить его происхождение. Такой наружностью отличались фараоны и последний из Птолемеев, таков был и Мизраим, родоначальник египтян. Путник был одет в белую расширенную до пят рубашку с шитьем, поверх нее был накинут темный шерстяной плащ. На ногах ездока были сандалии из мягкой кожи. Но особенно заслуживало внимания отсутствие всякого оружия: не было даже той крючковатой палки, которой обыкновенно понукают верблюдов, несмотря на то что он был одинок в пустыне, служащей приютом для леопардов, львов и людей, не уступающих по своей свирепости хищникам. Это обстоятельство давало возможность судить о мирных целях путешествия египтянина или же о его необыкновенной смелости, если не об особом незримом покровительстве.
От длинного и утомительного путешествия путник во всем теле чувствовал онемение. Он потирал руки, постукивал нога об ногу и ходил вокруг своего верного слуги, который, закрыв светлые глаза, с видимым удовольствием, не торопясь пережевывал свою жвачку. Незнакомец часто останавливался и, защищая глаза рукой, напряженно всматривался в пустыню. При этом лицо его слегка омрачалось, и проницательный читатель может догадаться о причине этого: путник ожидал товарищей, с которыми заранее договорился здесь встретиться.
Как ни казался огорченным путешественник, он, видимо, продолжал верить в прибытие товарищей. Сначала он подошел к носилкам и, вынув из ящика губку и маленький кувшинчик с водой, промыл верблюду глаза, морду и ноздри. Потом оттуда же достал материю, связку палочек и массивную трость. Последняя оказалась довольно остроумным изобретением – она состояла из нескольких маленьких палочек, вложенных одна в другую, которые при соединении образовали один длинный шест выше человеческого роста. Когда шест был воткнут в землю и к нему были прислонены палочки, незнакомец натянул на них материю и очутился у себя дома. Импровизированный дом, по размерам хотя и уступавший жилищу какого-нибудь шейха или эмира, во всех других отношениях был его точной копией. Так же появился четырехугольный кусок кошмы, которым была завешена от солнца дверь палатки. Исполнив это, путник вышел из нее и еще раз особенно тщательно осмотрел окрестности. Вдали равнину перебегал шакал, в небе орел совершал свой полет к Аравийскому заливу – вот и все, что представилось его взору.
Он вернулся к верблюду и тихо произнес: «Мы с тобой далеко от дома, мой быстроногий скакун, но с нами Бог: будем терпеливы!» Потом он, наложив из седельной сумки в торбу бобов, привесил ее к морде верблюда. Полюбовавшись наслаждением верного слуги, он отвернулся и снова стал смотреть на пески, успевшие раскалиться под вертикальными лучами солнца.
– Придут, – сказал он спокойно. – Тот, Кто руководил мной, укажет дорогу и им. Пора приготовиться к встрече.
Из ивовой корзинки, составлявшей часть багажа, путник вынул принадлежности для еды: блюда, сотканные из пальмовых жилок, вино в маленьких кожаных кувшинах, вяленую и копченую баранину, бескостные сирийские гранаты и замечательно вкусные, возросшие в пальмовых рощах Центральной Аравии финики, сыр, подобный Давидовым «молочным ломтикам», и квашеный хлеб – изделие городской пекарни. Все это он принес и поставил на ковер под сенью палатки. В заключение этих приготовлений он положил возле продуктов три шелковые салфетки, употребляющиеся на Востоке изысканным обществом.
Теперь все было готово. Он вышел наружу. Но что это? На востоке показался темный призрак. Путешественник остановился, словно прикованный к месту, глаза его расширились, мороз пробежал по коже, как при встрече с чем-то сверхъестественным. Призрак приближался и рос, принимая все более определенные очертания. Еще немного, и, уже ясно видимый, по пустыне двигался двойник его верблюда. Тогда египтянин сложил руки на груди и, подняв глаза к небу, воскликнул с благоговением: «Один только Бог велик!»
Незнакомец наконец приблизился и остановился. Увидев верблюда и человека, стоящего у палатки, он сложил руки, склонил голову и произнес про себя молитву, после чего спустился на песок и пошел навстречу египтянину. Одно мгновение они смотрели друг на друга, затем обнялись.
– Мир тебе, служитель истинного Бога! – сказал незнакомец.
– Тебе, мой брат по истинной вере, мир и привет! – страстно ответил ему египтянин.
Пришелец был высокого роста и худощав, со впалыми глазами, с сединой в бороде и волосах и бронзовым цветом кожи. Он также был безоружен. Белоснежный костюм на нем был индостанский: плащ, широкие шаровары, тюрбан, туфли из красной кожи с остроконечными носами. Вид незнакомца был благородный и строгий. Висвамитра, величайший из аскетичных героев «Илиады» Востока, имел в нем совершеннейшего представителя. Его можно было назвать жизнью, напоенной мудростью Брахмы, и воплощением благочестия. Одни глаза выдавали его человеческое происхождение.
– Один только Бог велик! – воскликнул он, когда они разомкнули руки. На лице его блестели слезы.
– И да будут благословенны служители Его! – отвечал египтянин. – Смотри, – прибавил он, – вон и другой едет.
Они посмотрели на север, где уже вполне можно было различить третьего верблюда. Вместе они ожидали, пока подъедет новый пришелец, слезет с верблюда и направится к ним навстречу.
Последний из прибывших совсем не походил на своих друзей: стан его был тоньше, волнистые светлые волосы украшали небольшую, но красиво очерченную голову и светлое лицо. Теплота, светившаяся в его темно-синих глазах, указывала на тонкий ум и сердечность натуры. Под грациозными складками тирского плаща виднелась туника с короткими рукавами. Она едва достигала колен, оставляя шею, руки и ноги обнаженными. Пятьдесят, а может быть и более, лет пронеслись над его головой, не оставив на нем никакого следа – физически организм и чистота души остались неприкосновенными. Нет нужды говорить читателю о его происхождении – если не сам путник, то его предки вышли из тенистых афинских рощ.
После трогательных приветствий египтянин произнес дрожащим голосом:
– Дух привел меня сюда первым, поэтому я считаю себя избранным быть слугой моих братьев. Палатка разбита, и хлеб для преломления готов. Дозвольте же мне исполнить свой долг.
Взяв каждого из них за руку, он повел их в палатку, вымыл им ноги, полил воды на руки и отер их полотном. Затем, вымыв и свои руки, он сказал:
– Позаботимся о себе, братья, как этого требует наше служение. Подкрепимся едой, дабы исполнить то, что нам предстоит в остаток дня. Во время еды мы познакомимся друг с другом: узнаем, откуда каждый из нас пришел, кто он и как его зовут.
Египтянин повел их за стол и усадил друг против друга. Одновременно все трое нагнули головы, скрестили руки на груди и вслух произнесли простую молитву: «Господи, Отче всех! Все, что лежит пред нами, все принадлежит Тебе: прими наши благодарения и благослови нас, дабы мы могли продолжать творить волю Твою».
При последних словах они подняли глаза и с удивлением посмотрели друг на друга: каждый из них говорил на языке, которого никто из остальных ни разу не слышал, и тем не менее все они вполне понимали, что произносит каждый из них. Души их охватило волнение: по чуду они судили о присутствии Божьем.
Откровение афинянина
Говоря в духе того времени, я должен упомянуть, что только что описанная встреча произошла в 747 году по римскому летосчислению. Был декабрь, и во всех странах, лежащих к западу от Средиземного моря, царила зима. Путешествующие по пустыне в это время года не могут совершить долгого перехода без того, чтобы не почувствовать сильнейшего голода, и компания, собравшаяся в маленькой палатке, не составляла исключения – все проголодались и ели с удовольствием. После вина они разговорились.
– Ничего нет приятнее для путника, как слышать на чужбине свое имя, произнесенное другом, – сказал египтянин, старший за столом. – Нам предстоит много дней провести вместе. Необходимо познакомиться. Я предлагаю уступить первое слово тому, кто прибыл последним.
Тогда начал говорить грек, сначала медленно, как будто обдумывая каждое свое слово:
– То, что мне нужно сказать вам, братья, так необычно, что я колеблюсь, с чего начать. Сам я еще не вполне хорошо себя понимаю, но более всего уверен в том, что исполняю волю Творца, и служение это для меня равносильно счастью. Размышляя о деле, ради которого я в пути, я испытываю невыразимое ликование, ибо послан волей Божьей.
Он умолк, не будучи в состоянии продолжать, остальные же, разделяя его волнение, потупили взоры, до сих пор пристально устремленные на говорящего.
– Далеко отсюда, на западе, – возобновил он свою речь, – есть страна, память о которой никогда не будет предана забвению хотя бы потому, что весь мир находится у нее в неоплатном долгу, так как ничем нельзя отплатить за то, что доставляет нам высшее духовное наслаждение. Через ее литературу весь мир познал Того, Кого мы ищем и провозглашаем. Земля, о которой я говорю, – Греция. Меня зовут Гаспаром, я сын Клинфа, афинянина.
Мои соотечественники всецело предавались наукам, и я наследую ту же страсть. Случилось так, что двое наших философов, величайших среди других, учили: один – о душе, о том, что она есть у каждого человека и что она бессмертна, другой – о едином истинном Боге. Из множества тем, на которые дискутировали между собой школы, я остановился на этих двух вопросах как на единственно достойных труда, затрачиваемого на их разрешение, ибо думаю, что между Богом и душой существует отношение, которое пока неизвестно людям. Ум может строить всевозможные заключения до тех пор, пока не встретит глухой стены. Перед ней ему придется остановиться и воззвать о помощи. И я взывал о помощи, но никто не ответил мне. В отчаянии я порвал с городами и со школами.
При этих словах изнуренное лицо индуса осветилось улыбкой одобрения.
– В северной части моей родины, в Фессалии, – продолжал свой рассказ грек, – есть гора Олимп, известная как место пребывания богов, где живет Зевс, почитаемый моими соотечественниками за наивысшего среди них. Я удалился туда и там на одном из ее холмов нашел пещеру. В ней я устроил себе жилище и жил, предаваясь размышлениям – нет, скорее не размышлениям, – я отдался всем своим существом страстному ожиданию того, о чем молит всякая живая душа, – ожиданию откровения. Веруя во всевышнего Бога, я не сомневался в том, что Он, видя страстные искания моей души, сжалится надо мной и ответит мне.
– И Он ответил! – воскликнул индус, приподняв свои руки с шелковой материи, лежавшей на складках его платья.
– Слушайте, братья мои, – продолжал грек, не без труда подавив в себе волнение. – Дверь моего пустынного жилища вела к Фермейскому заливу. Однажды я увидел человека, выброшенного с шедшего мимо корабля. Он подплыл к берегу. Приняв его у себя, я позаботился о нем. Он оказался иудеем, сведущим в истории и законах своей страны. От него-то я и узнал, что Бог, Которого я искал, существует, Он их законодатель, руководитель и царь. Разве мог я не признать в этом откровения, которого так жаждала моя душа? Вера моя не была бесплодна: Бог ответил мне!
– Как Он отвечает всем, кто с верой приходит к Нему, – сказал индус.
– Но, увы, – прибавил египтянин, – как мало тех, кто в состоянии понять, когда Он им отвечает!
– Посланный ко мне человек, – продолжал грек, – сказал мне больше. Он сказал мне, что есть предсказания о Его пришествии на землю. Он сообщил имена пророков и привел их собственные слова из священных книг. Он сказал также, что это пришествие близко и в Иерусалиме его ожидают с часу на час.
Грек остановился, и оживленное лицо его затуманилось. После короткой паузы он заговорил вновь:
– Правда, человек этот сказал мне, что Бог и Его откровения существуют только для евреев и что это и впредь будет так: «Тот, Кто должен прийти, придет затем, чтобы стать Царем иудеев». – «Неужели у Него нет ничего для остального мира?» – спросил я. – «Ничего нет: мы – Его избранный народ!» – ответил он мне с гордостью. Ответ не поколебал моей веры. Зачем Богу ограничивать свою любовь и милосердие одной страной и одним народом? Я посвятил себя размышлениям, и мне удалось пробиться сквозь гордыню: я убедился, что народ иудейский избран служить хранителем веры в живую истину, дабы мир мог узнать ее и ею спастись. Очистив душу новыми молитвами, я просил у Царя Небесного милости узреть Его, когда Он сойдет на землю, и послужить Ему.
Однажды ночью я сидел у входа в свою пещеру, снова и снова пытаясь проникнуть в тайну своего существования, стремясь познать то, что может знать только один Бог. Вдруг я увидел над морем, или, лучше сказать, в той темноте, которая показывала место моря, забрезжившую звезду. Она медленно поднималась, постепенно приближаясь ко мне, и остановилась над входом в мою пещеру, так что весь свет от нее падал на мое лицо. Я пал ниц, заснул и во сне слышал голос, говорящий мне: «Гаспар, вера твоя победила. Да будет над тобой благословение. С двумя другими, идущими с противоположных концов земли, ты узришь обещанного и будешь свидетельствовать о Нем. Встань и иди им навстречу: веруй в Духа, Который будет руководить тобой». Наутро я проснулся, и Дух, освещавший мое сознание, пребывал во мне. Я расстался с пустынническими одеждами. Мимо проходил корабль, меня приняли на борт и высадили в Антиохии, где я купил верблюда и упряжь. Садами и пальмовыми рощами, оживляющими пески Оронта, я шел на Эмезу, Дамаск и Бостру, на Филадельфию и, наконец, прибыл сюда. Вот, братья, моя история. Теперь позвольте мне выслушать вас.
Исповедь индуса
Египтянин и индус взглянули друг на друга, и первый жестом пригласил второго начать свою исповедь. Поклонившись, тот сказал:
– Брат наш говорил хорошо. Не знаю, буду ли я в силах говорить так же мудро.
Индус приостановился, немного подумал и затем продолжал:
– Братья мои, зовите меня Мельхиором. Я обращаюсь к вам если не на древнейшем, то во всяком случае на первом письменном языке – на санскрите. По рождению я индус. Мой народ первым возделывал поле знания, первым засевал его и первым его украсил. Каковы бы ни были грядущие судьбы человечества, священные писания – Веды – не могут погибнуть, ибо они первоисточники религии и полезного знания. Таковы и великие Шастры и Пураны. Братья мои! Не из тщеславия, как вы легко поймете, скажу я вам, что Шастры учат о всевышнем Боге, именуемом Брахмой, а Пураны говорят нам о добродетели, добрых делах и душе. Для меня эти писания теперь не существуют, но в глазах человечества они навсегда останутся памятником гения моего народа. Они служили залогом быстрого прогресса, но вы спросите меня, почему его век не наступил. Увы! Эти книги сами преградили доступ к усовершенствованиям. Под предлогом того, что Творец озаботился всем, они установили тот роковой принцип, что человек не должен стремиться ни к открытиям, ни к изобретениям, ибо Небо уже снабдило его всем необходимым. Раз подобное положение сделалось священным законом, светильник индусского гения упал в колодец, где с тех пор освещает лишь его узкие стены и горькие воды.
Говорящий почтительно поклонился греку и продолжал:
– Если, мой брат, дозволишь, я скажу, что две великие идеи – о Боге и о душе – целые века поглощали все силы индусского народа, прежде чем твои соотечественники ознакомились с ними. Да будет мне позволено сказать, что, по учению упомянутых мной священных книг, Брахма рассматривается как тройственное божество – само верховное божество Брахма, а также Вишну и Шива. По преданию, Брахма считается родоначальником нашего племени, которое он разделил на четыре касты. Прежде он населил подземный мир и небо, затем сделал землю удобной для пребывания на ней земных духов. Тогда из его уст вышла каста брахманов, подобных ему по возвышенности и благородству, единственная из всех каст, допущенная к изучению Вед, которые одновременно с ней слетели с его уст. Затем из рук его произошли кшатрии, или воины; из его груди, вместилища жизни, произошли вайшьи – пастухи, землевладельцы, торговцы; из его ног, в знак низшего происхождения, вышли шудры, или рабы, принужденные работать на людей остальных каст, – служители, домашняя прислуга, земледельцы, ремесленники. Заметьте, что закон, родившийся одновременно с кастами, запрещал переход из одной касты в другую. Перебежчик становился вне каст, отщепенцем, чуждым людям любой касты, и мог пребывать в сообществе только таких же отщепенцев, как и он сам.