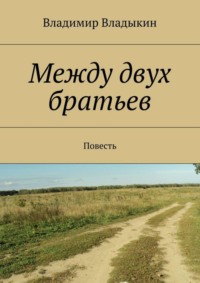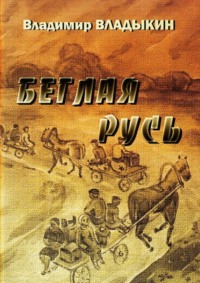Полная версия
В каждом доме война. Роман в двух книгах. Хроника народной жизни (1941—1947)
Теперь, думая о прошлом, Пелагея приучала себя к тому, что она, должно быть, не скоро увидится с мужем, а может, вообще больше не доведётся быть им вместе? Но эти мысли она отгоняла от себя прочь, правда, у неё было ощущение, что с Устином на фронте пока ничего не случилось, и втайне молила Бога, чтобы уберёг мужа ради их любви и детей. Словом, Пелагея настроила себя на долгое ожидание Устина, без которого другие мужчины для неё как бы не существовали. Правда, их в посёлке почти не осталось, не считая стариков, о Макаре же бабы шутили, мол, остался, как племенной бык. А всё-таки в первые недели без мужа испытывала одно мучение, потом стала привыкать. В конце концов она уже не такая молодая. Пора бы укротиться плоти. Но она, вопреки всему, иногда властно заявляла о себе, что её чрезвычайно огорчало, дурно сказываясь на всём самочувствии. Но само по себе это желание подавлялось довольно редко, и поневоле приходилось вкалывать так, что от страшной усталости валилась с ног. Собственно, работой и спасалась, да сознанием, что муж сражается с фашистами на фронте.
От клуба шагали сначала молча. Роман Захарович всю ночь глаз не сомкнул, ведь немцы с автоматами наперевес, с электрическими фонариками ходили по току, заглядывали в зернохранилище и жестами объясняли ему, мол, если зерно куда денешь, тут же на столбе повесят. Они осматривали все сараи не как захватчики, а как истые хозяева. Ещё днём пересчитали коров, быков, кур, свиней. И почему не увезли всё поголовье, думал в недоумении Роман Захарович…
– Што жа ты, Ромка, не опередил Осташкина? – спросила Устинья. – Был бы старостой и нам бы жилось полегче?
– Самому в петлю лезть? Ты совсем с ума спятила! – ответил Роман Захарович, удивляясь в душе своекорыстию жены. – Они же тут не насовсем – придут наши и спросят: «Зачем врагу служил?» Нет, не по мне этот хомут, а его, Марфина тятьку, я не осуждаю, после с ним, конечно, разберутся, и не завидую ему, сговорчивому дураку.
– А ты будто знаешь, когда придут наши? А можа и вовсе не придут, вишь чаво бают вони – власть их тута надолго! – твёрдо сказала Устинья. Ты жа гляди – перед имя не больно умничай, а то начнёшь их учить уму-разуму. Вон Верстова Агапка мне сказывала – немцы хорошие – сами вызвались ей дров нарубить. А потом веселье завели… девке её и самой шоколадом потрафляли. И у Тёминой Варьки спокойные. А у нас – чисто дьявольское выродье!
– Обижали, значит? – спросил Роман Захарович, изменившись в лице, посуровев.
Устинья махнула рукой – замолчала. Климов посмотрел на невестку, ёжившуюся от холода в своей дошке из искусственной цигейки, и как-то хмурила брови, уйдя в себя. – Так что они делали – паскудники? – продолжал допрос он, нажимая на последнее слово.
– Ну, вот сейчас же я позволю им, как бы ни так, – грубо бросила Устинья. – Нашли молодуху. Я о старосте чево завела речь. Они бы вели себя не шибко нагло…
Роман Захарович покраснел, его лицо отливало бурым окрасом, глаза налились не то стыдом, не то ревностью, не то злостью; ведь то, о чём он думал на дежурстве, выходит, подтверждалось в действительности…
Глава 17
Устоялись морозы; снегу ещё навалило небывалого; идёшь по улице, а ноги прямо тонут, скрипит как крахмал, с ворчливым присвистом, словно собака грызёт кость и урчит на воображаемого противника. Осташкин обходил дворы ближе к вечеру, когда уже сумерки смешивались со снегом, а небо отливало густой синюшностью с крапинками звёзд, похожих на капли воды, освещённых изнутри острым лучом, застывавшим в стекле.
Немецкий офицер дал старосте наказ: со списком являться с напоминанием к тем, кого будут посылать на работу в город. В списке помечена в основном одна молодёжь – девки и парни. В это число попали Нина Зябликова, Анфиса Путилина, Стеша Полосухина, Валя Чесанова, Глаша Пирогова, Лиза Винокурова, Наташа и Настя Жерновы и другие девушки. А вот Ксении Глаукиной, Наде Крынкиной, Кларе Верстовой, Доре Ермиловой выпала доля работать в госпитале – присматривать за тяжелоранеными немецкими солдатами и офицерами…
Ребятам надлежало выехать завтра на строительство инженерно-оборонительных сооружений. Для Осташкина это была неприятная миссия. Некоторые бабы жаловались ему на грубое обращение немецких солдат, мол, нельзя ли ихнему начальству передать, чтобы укоротили им руки? Старик отвечал, что постарается; эти немцы, оказывается, вовсе не такие живодёры, о каких писали в газетах, с ними вполне можно о чём-то договориться. И шёл в следующий двор, не задерживаясь в каждом более пяти минут: он оповещал о предстоявшем задании и топал дальше.
Потом немцы откуда-то приезжали и расходились по своим квартирам. Этот вечер начал отсчёт их хозяев в новых условиях подневольного существования.
Утром чуть свет ребят погрузили на один фургон, девчат на другой; бабы со слезами провожали своих дочерей, словно на чужбину. Кто-то шёпотом заметил, что немцы решили обманом увезти молодёжь в Германию.
Екатерина Зябликова выглядела спокойной, бабские пересуды она воспринимала вполне осмысленно, то есть без паники. Староста Осташкин вместе с немецким майором, исполнявшим обязанности коменданта, пересчитал девчат, так как дед хорошо их ещё не знал. Своих внучек Никита Андреевич как ни старался заменить на любых других девушек, комендант упёрся – и ни в какую:
– У нас русский блят не пройдёт! – важно отчеканил майор фон Дитринц Роненберг. – Ничьего, твой внучка там не пропадёт.
– Далеко их увезут? – робко спросил старик, тушуясь под взглядом офицера.
– Найн, туть близко вашь горад. Под хутор Татарка, слыхаль? – Осташкин отрицательно покачал головой.
Комендант махнул рукой водителю, чтобы тот трогал. Машина бодро загазовала, выбивая из выхлопной трубы чёрный дым, и тронулась в сторону выезда на дорогу, ведшую в город Новочеркасск. Бабы следом, гуськом, с проникнутыми тревогой лицами, пошли за фургоном, махая руками. Ещё хорошо не рассвело, но было довольно холодно; мороз выжимал, кажется, всё, на что был способен. Немецкие солдаты пританцовывали, разогреваясь: хлопали руками в рукавицах по бокам друг друга.
От своих постояльцев Екатерина ещё вчера вечером ненароком узнала, что молодёжь повезут на работы и в дальнейшем им пока можно было не волноваться. Денис тоже уехал ещё раньше Нины. И немцы сейчас запрыгивали в фургон, но куда они уезжали, толком в посёлке никто не знал, впрочем, и даже не пытались любопытничать не в меру.
В колхозе бабы работали по указке Макара – он и сам не стоял без дела, не сидел в конторе; довольно и того, что бухгалтерия была полностью в руках Шуры. Назара поставил присматривать за дизельной подстанцией. Макар сумел своих детей оставить при себе. Возле Шуры иногда появлялся майор Дитринц и любезничал с девушкой с подчёркнутой учтивостью, на какую только способен воспитанный немец. Бабы изредка становились свидетелями того, как офицер провожал Шуру в контору. А потом, поговорив с ней, козырял и уходил к дороге, куда подъезжал автофургон, и на нём отбывал восвояси, оставляя вместо себя одного из младших офицеров с несколькими солдатами, наблюдавшими за работой людей в колхозе и жизнью посёлка. По улицам бегали пацаны, предоставленные сами себе, да в хатах или на дворе возились по хозяйству старухи…
Вечером немцы вернулись, а молодёжь была расквартирована в хуторе Татарка по хатам. Ксения и Клара помогали солдатам снимать с фургона тяжёлораненых, которых доставляли в тыл с фронта. Надя и Дора выносили грязные бинты, стирали и кипятили их и всё нижнее и верхнее бельё солдат в бывшей детсадовской кухне.
Из девушек больше всех переживала Ксения, разлученная с Гордеем, увезённым с другими парнями в прифронтовую зону. Накануне вечером они проводили время в скирде, несмотря на собачий холод. Но вместе им было почти тепло. Гордей выражал надежду, что им недолго быть в разлуке, всё равно наша армия вот-вот разобьёт немцев. Гордей просил Ксению не оставаться одной на виду у солдатни. У него стояли в глазах слёзы, она как могла, успокаивала его, что немцы не посмеют насильничать, теперь есть староста, объяснивший, что солдатам строго-настрого запрещено обижать население.
Ночью Ксения увидела во сне, как Гордей бил палкой по лицу немца, а он стрелял в него из автомата, но Гордей остался жив. Теперь она опасалась, что наяву это тоже может произвести, так как Гордей, в случае чего, собирался убежать из фашистского рабства.
Вечером, с тетрадью в кармане пальто, Осташкин ходил опять по хатам, куда записывал поголовье скота, птицы. Начальство будет сурово наказывать тех, кто самовольно порешит что-либо из живности. Никита Андреевич прямо говорил, если кто-либо самовольно посмеет заколоть кабана, то без его разрешения этого делать никак нельзя, но если и немцы самовольно сделают то же самое, то его, как старосту, о факте мародёрства хозяева должны поставить в известность.
– Для чего это им надо вводить такой строгий порядок? – спросил Роман Захарович у старосты.
– Дак, я так полагаю: интендантская рота заготовляет продовольствие для своей армии, да и раненых надо чем-то кормить, – пояснил Никита Андреевич. – Я всем так объясняю, ежели заколите кабана, тогда нам всем не сдобровать, а вот петушка или курицу, если порешите – я оставляю за вами – не впишу в тетрадку, но чтобы я точно знал, когда в свой котел их оприходуете.
– Ну и ну, нашёл себе службу! – слегка досадуя, ответил Роман Захарович.
– Дак, ежли бы ты согласился – делал бы то же, что они велят. Не от себя же я?
– Нет, сам бы я не пошёл, – раздумчиво сказал Климов. – А на свой риск они бы со мной не стали связываться. Я не их поля ягода. Насильно мил не будешь, так-то.
– А ежели они пришли насовсем? – в оторопи процедил Осташкин. – Я, конечно, понимаю, мы всегда врагов осиливали, но эти же на броне и самолётах?
– Как ты далеко глядишь! У нас тоже своя броня и авиация, что ж мы, только на лошадях шашкой махали? – Роман Захарович махнул рукой. Из дальней горницы выглянула Устинья и решительно покрутила у своего виска, мол, дед совсем спятил, с кем вздумал спорить, завтра же выдаст тебя им.
– Не думайте, что я какой-то враг, своих всегда уберегу, – сказал Осташкин, увидев жест старухи. – Ну, ладно, потопаю, а то немчи скоро, – он нахлобучил шапку, неловко потоптался на месте.
Роман Захарович в валенках проводил старосту до калитки. Уже который вечер дома не было внука. Постояльцы приглашали хозяина к столу пропустить чарку-другую водки. Солдаты искали глазами его невестку, которой свёкор велел не показываться им на глаза. Доила корову до их прихода Устинья. Роман Захарович сам ходил к коменданту и объяснил тому щекотливую ситуацию, что, дескать, вольничать в отношении их баб солдатам позорно. Майор Дитринц от всей души засмеялся, откинув голову назад, глядя снисходительно на деда.
– Немецкий зольдат твоя жена трогаль? – потом спросил комендант. – Старый баба им не нужна, а-а, невестка-а, о-о, гуд! Я сказаль зольдат, ти не бойся – волос с невестка не упадёт без моей приказ. А короша твоя невестка! – он опять засмеялся.
– Господин майор, вам почему-то весело, а нешто наши бабы любят грубые руки? Как бы ваша жена заговорила, если бы её чужой солдат начал лапать? Паскудство – последнее дело для военного, это разлагает вашу армию.
– О, ти философ, ваш зольдат никогда к нам не пойдёт, ви узе скоро капут. Сталин ваш с нашим фюрер братовались. Молотовь и Робинтроп – их послы мира, ти это не зналь?
– Наши люди стали забывать, что все мы ходим под Богом, – начал Климов. – А ведь в писании сказано: кто пришёл с мечом…
– Тоть и от мечья умрёт! – воскликнул майор Дитринц. – Карошо сказаль, я-я. Наш фюрер зналь сказание вашего министра Бисмарк: на Русь нельзя идти война – падёте! Ми верим Бисмарк, нашему соотечественнику. Но наша армия не победима, фюрер достиг главной цели и высокий идей освобожденья мира от коммунизма. И ми узе у порог Московии.
– Я про Бисмарка не слыхал, у меня три класса церковно-приходской школы. А зачем вам освобождать нас от коммунизма, которого ещё нет в помине? Вы, как татары, хотите отхватить весь мир. Вот это мне давно ясно. Мы не просили нас освобождать, а ежли надо – сами, как царя…
– Ваша Русь нищая, босая, а коммунизм – утопия. Ви сказать хотите, сто я фасист? О, найн, я по призванию простой инженер, война мне неприятна, но у нас мобилизация – закон. Я людей не убивай, моё дело исполнять приказ…
– Вот прикажут, и застрелите любого, ведь так? Ежли вы не фашист, то и не антифашист, ежли выполняете их приказ! – сказал Климов.
– Найн, моя рота – не каратель, мне приказывают не убивать. А всего лишь обслуга фронта…
Роман Захарович понимал, что майор иногда противоречил сам себе. Раз не фашист, тогда зачем превозносить своего фюрера? Но это он остерегался спрашивать: как бы немец не отделял себя от фашистов, а находился он с ним в одной упряжке, и будет молчать при виде расстрелов истинных антифашистов. Но и то хорошо, что офицер нашёл работу для наших людей недалеко от дома, думал Роман Захарович, покивав вежливо на последние слова майора Дитринца.
– Иди, старик, домой – нахаузен, я твоя беспокойства понималь, у меня в Германий есть свой семья, я узе сказаль: зольдаты – не обижайте населений. В Татарка есть полицай хузе наш золдать, я-я! Ню, ступай… – указал жестом, не терпящим промедлений.
И Роман Захарович пошагал, пребывая в лёгком недоумении от почти равного разговора с вражеским офицером. А по дороге ему шла навстречу Домна Ермилова, поравнявшись с ним, грубо спросила:
– Нечто к немчуре нанимался в сторожа?
– У них своих полно, я такой службой брезгую, а вот ты с ними распутничаешь! Это же какой балаган вы устроили у Василисы, а? И стыда нет! Муж Аркаша сражается, а она с немцами забавляется. Дуры вы, бабы, свою кровь русскую портите, нацию позорите! Тьфу на тебя! – бросил Климов, полный возмущения оттого, какие дурные слухи ходили о Домне.
– Ты лучше на себя обернись, хрыч старый! – оборвала она. – Я по комендатурам не шляюсь, как ты. Ходишь, как куркуль, ишь, вырядился в полушубок – пентюх старый, завидки душу изъели? На Устю уже не залезаешь, а бабка увся издёргалась от энтого. А можа с невесткой балуешься, а Усте ужо на тебя тошно зреть? – и Домна, сверкнув озорно глазами, заржала.
– Язык у тебя, что помело, нечего несуразицу плести. Дай бог, чтобы твой Демид вернулся, он бы тебя наставил на путь истинный. Шельма язычная как есть! – незлобно произнёс Климов и пошагал неторопливо дальше, оглядывая заснеженный посёлок. Он вспомнил, как майор что-то говорил неодобрительно о наших руководителях, но что он этим хотел сказать, Роман Захарович не мог сообразить ни тогда, ни теперь, вдумываясь в его слова о Молотове и Робинтропе. И когда же успел Сталин брататься с их Гитлером? Наверное, это чистой воды поклёп на вождя всех народов. Он одно никак не мог уяснить: почему немцев пустили в страну, где самая большая армия и передовая идеология? Ежли это произошло, в чём, он, собственно, почти не сомневался, значит, не всё обстоит так хорошо и в армии, и в руководстве страны? Немцы уверено заявляют, что уже, считай, победили коммунистов. От сознания этого у него на душе делалось не по себе, но всё равно Климов не хотел верить немцам, которым сейчас очень выгодно таким образом подавлять дух русских людей, чтобы у них не возникало побуждений к оказыванию им всяческого сопротивления.
От этих мыслей его незаметно отвлекли суждения Домны, совершенно лживые, будто бы он забавляется с невесткой. Для него это было целое открытие – вон в каких догадках пребывают бабы навроде Домны, неужто видно, что он дюже падок до молодых баб? Нет, вряд ли – это она решила со зла навести тень на плетень. Пустые домыслы, но такие, что скажи любому, так и поверят не за понюшку табака. Конечно, летом он боролся с вожделением, какое испытывал и к Ульяне Половинкиной, умевшей соблазнительно водить глазами и вертеть юбкой, и к Анне Чесановой, и к Авдотье Треуховой. Впрочем, почему бы ни полюбоваться хорошей бабой, на то она и красота, что невольно влечёт пялиться на неё, но вовсе без какого-либо плотского вожделения. Хотя заповедь Христа как раз это и осуждала, точнее, объясняла ситуацию… Да и бабы вроде той же Домны сами впутывают в свои чары так, что просто мочи нет освободиться от них. Вот и невестка его обладает всеми женскими качествами – обращать на неё внимание. Но он-то, чтобы поиметь с ней грех, и в мыслях избегал вожделения, ведь как-никак жена сына родного. Ему казалось, что невестке тоже тяжело без мужа, а сейчас война, другим голова забита, как бы достойно перетерпеть оккупацию. А тут эти солдаты смотрят на баб голодными псами, а их начальник ещё и шутил. Для него ничего не стоит смотреть за выходками своих подчинённых сквозь пальцы, не считая насилие за большое преступление, ведь они захватчики, чем всё как бы и сказано, что и развязывает им руки. Но своих баб он, Роман Захарович, ни за что им не даст в обиду…
Глава 18
В тот вечер у Василисы по наущению немцев собрались бабы и девки. Домна ушла домой, пообещав разбитной товарке привести Натаху Мощеву, которой сказала, что там ничего такого паскудного не будет, ведь немцы культурные люди. Клара Верстова пришла посмотреть исключительно ради любопытства, как танцуют немцы; с собой она привела Лиду Емельянову и Тосю Салфетову, а Танька Рябинина прибежала сама. Домна велела каждой девке, если хотят быть на вечере, принести закуску и что-либо выпить.
Одну горницу освободили под танцы и застолье. С утра Василиса крутилась у плиты. В колхоз не пошла, так как её постояльцы разрешили заняться кухней. Василисе помогла чистить картошку и овощи её дочь Люда, а потом она занялась маленькой сестрёнкой, после чего мать заставила её уйти с ней к Верстовым. Вскоре с Домной пришла Натаха. Вечером перед двором Тучиных вертелись нарядные краснощёкие девки. Собственно, вход для всех баб и девок был свободен. Немцы приехали как раз те, которые стояли у Василисы; они побросали за печь своё снаряжение и от переполнявшего их восторга щупали девок. Потом стали сходиться другие: унтер-офицеры, фенфебеля, солдаты. Комендант майор Дитринц пришёл с двумя подчинёнными; они посмотрели, поговорили со своими и удалились. Уже почти все жители посёлка прослышали о том, что Тучина задаёт немцам пир. Но мало кто решился посмотреть на невиданное доселе зрелище. В душе многие осудили Василису за потакание и угоду фашистам. Постояльцы Домны, конечно, были активными зачинщиками вечеринки; стоило ей намекнуть им о намечавшемся гульбище, как немцы мгновенно одобрили затею своих соплеменников. Они привели Ганса, Курта, Фрица. Всего их было более десяти человек. Принесли граммофон и кипу пластинок, чего наши девки и бабы воочию ещё не видели. Немцы все выбрились, вымылись и благоухали своими заграничными одеколонами. Курили дорогие папиросы. Затаскивали в хату с улицы девок – сестёр Овечкиных, Алёну Чередникову, но они вырвались с визгом и вскоре в панике убежали в страхе, а другие остались, хотя застолье ещё не начиналось. Однако некоторые бабы тоже не усидели и направились к подворью Тучиных – смотрели в окна, где в такой знатный вечер горели сразу четыре керосиновые лампы только в одной горнице, да в другой не меньше. И потому яркий свет наводил на людей ужас, словно хозяйка учинила ведьмин шабаш…
Когда вечер начался, комендант пожалел, что не устроил веселье прямо в комендатуре. Он бы непременно пригласил дочку председателя, которая всегда краснела, если брал её под руку, и очень боялась оттолкнуть от себя офицера. А сейчас он, заперев комендатуру, пошагал по накатанной снежной дороге к хате Костылёвых. В посёлке слышался лай собак. Солдаты хотели их перестрелять, но майор им строго запретил это делать, чтобы не настраивать против себя местное население, так как должны поддерживать с жителями мирные отношения. Зачем, собственно, зря настраивать против себя народ? Это майор Дитринц знал наверняка, поскольку полагал – потому русские так отчаянно и сопротивляются немецким войскам, что части эсэсс и гестапо учиняли над мирным населением подчас бессмысленные зверства, являющиеся для тех обычным делом. Ведь фюрер таким способом велел им устанавливать германское господство над покорёнными народами, подлежащими уничтожению ради торжества немецкой нации. Но насилие, жестокость порождает сопротивление. Уже с первых дней войны с советами было совершенно ясно, что русские будут драться за каждую пядь земли. И блицкриг не состоялся, что и подтвердилось в первый же месяц войны…
Майор Дитринц постучал в окно хаты, и тут же показалось девичье, впрочем, ещё детское лицо, но это была вовсе не Шура, и по своей красоте она ни в чём не уступала своей старшей сестре. Он прошёл уже немало русских селений, городов, и везде ему удавалось закрутить роман с хорошенькими девушками или женщинами. Они отдавались майору, казалось, с поразительной лёгкостью, впрочем, он знал, что женщины уступали ему исключительно из-за страха, а сила немецкого оружия, само понятие – нацизм, наводили на русских ужас. Нет, силой он невольниц не брал – только вежливым обхождением, и вскоре они проникались к нему доверием. Некоторые отдавались с той лишь надеждой, что это непременно спасёт их от плена и увоза в Германию, отчего он действительно обещал их освободить за примерное послушание. Сначала он нарочно играл на чувствах женщин, боявшихся пленения, а потом говорил, что для них лучшее спасение – это он сам. И они отлично понимали, что от них требовалась покорность сильному. Вот и Шуру он нарочно оставил в колхозе в своей должности бухгалтера, а заодно и её брата. Отец к этому не приложил ни одного душевного усилия, хотя майор видел, с каким ожидающим взором Костылёв смотрел на него, при этом не зная, что нужно сказать, чтобы его дети не попали в отдельный список посылаемых на спецработы. О Германии речи пока не шло, так как ему была поставлена задача – организовать в тылу госпиталь с местным персоналом, что блестяще он и сделал со своими, разумеется, врачами.
Ему открыл сам Костылёв. Майор вошёл степенно, видя, как хозяин побледнел, и Дитринц почувствовал с удовлетворением своё превосходство над этим трусливым русским мужиком, который совершенно не способен организовать в посёлке сопротивление немецким солдатам. Макар Пантелеевич будет служить ему так, как он, майор, сам пожелает. И на его самодовольном лице отразилась снисходительная улыбка.
– Ти, Костилёв, понимай, твоя дочь Зуля благодаря менья дома? – спросил он многозначительно. – Очьень карошо. Ти не возражай, чтё я с ней погуляю?
– Да, как вам ответить, господин офицер, – начал сбивчиво Костылёв. – У неё-то есть жених. А вы… нет, я отказать не вправе, лучше я позову саму Шуру…
Феня выслушала этот разговор, стоя спиной к печи, и пошла в другую горницу сказать падчерице, что её вызывает комендант.
– У неё есть свой жених на фронте? – майор с видом удивления плотоядно улыбнулся, и в это время из горницы в переднюю вышла Шура, на её щеках играл румянец, она была в новой юбке и вязаной кофточке.
Офицер оглядел её волнующий стан с хорошей фигурой с полными грудями. Ему казалось, что целомудренней этой девушки он ещё не встречал. С каким достоинством она держалась, как настоящая светская дама. Утром они уже виделись, и он сказал, что вечером к ней придёт, и они сходят на вечеринку. Шура тогда ещё не знала, что Василиса Тучина и есть зачинщица танцев в своей хате.
Костылёв, сутуля спину, пошёл мимо дочери к жене, из-за плеча которой выглядывала Ольга. А Шура подошла к майору, услышав от офицера приглашение на прогулку.
– Надо же одеться… Я сейчас выйду, – и она быстро ушла, вновь появившись в цигейковой шубке с большим воротником из такого же меха, покутав на голову белый пуховый платок и надев невысокие белые валенки с подвёрнутыми краями. Офицер пропустил её вперёд галантным заученным жестом, идя следом за девушкой.
Шуре было уже семнадцать лет, и она выглядела несколько старше своего возраста, о чём она, правда, совершенно не задумывалась… Бурный роман с Сергеем Чернушкиным, с которым должны были пожениться, оставил у неё в душе незабываемый след. Но уже более чем через полгода разлуки с ним, потеряв переписку, его образ будто растворился в глубине её сознания. А любовь к нему всё ещё светилась в душе, но уже несильным, неотвратимо слабеющим огоньком. И фитилёк её под действием всесильного времени всё прикручивался и уже горел совсем слабым, чуть тлевшим язычком. О Сергее она всё равно уже так не думала, как раньше, словно боясь, что память о нём неизбежно навредит ей. Но, тем не менее, Шура хотела быть ему по-прежнему верна, хотя тогда она даже не предполагала, что немецкий офицер станет за ней настойчиво ухаживать. Девушка очень смущалась, так как все бабы стали свидетелями этой, словно театральной, сцены. И она просила коменданта больше так не делать при всём народе, уж лучше всего ему приходить к ней вечером, когда никто её не видит, чтобы потом бабы не осуждали её за связь с офицером. Ведь тут ей ещё долго жить. Хотя как раз об этом Шура остереглась заявить ему открыто, так как он бы посчитал, будто она ждёт-не дождётся, когда наши войска изгонят немцев с родной земли. Но то, что это когда-нибудь произойдёт, она почти не сомневалась. Конечно, девушка уяснила, что майор нарочно оставил её дома для себя. Сознавать это было, разумеется, неприятно и досадно, она ни за что не хотела превращаться в любовницу врага Отечества. Но он ни за что не будет слушать её детский лепет о целомудрии, ему нужна женщина, коей к тому времени она стала давно, прямо в степи, когда однажды Сергей провожал её домой из города. Но об этом, кроме него одного, не знала ни одна душа. Потом, живя на квартире в городе, они сожительствовали, ни от кого не таясь. Сергей собирался здесь остаться, ещё служа в армии. Он съездил к себе домой, вернулся с намерением пожениться, но неожиданно грянула война, и вскоре они расстались. Шура вернулась в посёлок. И вдруг обнаружила, что беременна; она слыхала о Чередничихе, делавшей аборты, и ночью в строгой тайне пришла к ней. Перед тем, как удалить плод греха, Шура потребовала от старухи принести ей клятву, что об этом случае не узнает ни одна душа. Чередничиха, зная цену молчания, выразила обиду, что с такими помыслами к ней лучше не приходить. Тем не менее она освободила её от бремени. Шура заплатила Чередничихе за услугу и ушла с червоточиной в душе…