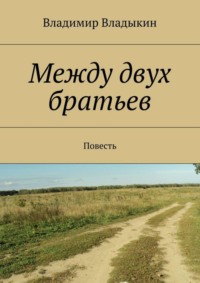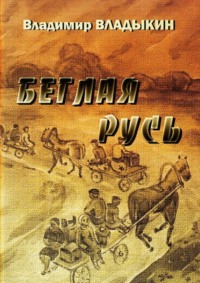Полная версия
В каждом доме война. Роман в двух книгах. Хроника народной жизни (1941—1947)
Когда Прасковья получила на мужа похоронку, что было ясно по характеру её плача, Екатерина сама пошла к соседке, между прочим, первый раз за три месяца жизни на новом месте. Разумеется, Екатерина сопереживала горю Прасковьи и старалась успокоить её, что, может, Изот жив, просто прислали похоронку по ошибке, таких Изотов Дмитруковых на Руси много. Но Прасковья сослалась на увиденный накануне сон, будто он просил больше ему не писать, так как у него нет воинской части, что теперь он принадлежит вечному воинству, оберегавшему солдат пехоты. И вот Прасковья тотчас сообразила, что муж, говоря об отсутствии у него воинской части, подразумевал под этим одно, – дескать, он был уже убит. Ведь он даже ещё указал своё постоянное место: в лесу, среди молодых сосёнок, под песчаным холмиком…
Прасковья иной раз даже вникала в личную жизнь девок, зная, с кем какая девушка встречалась. Когда её дочь Маша сдружилась с Алёшей Жерновым, Прасковья при первой же встрече ляпнула Екатерине, что её Нина прозевала Алёшу вовсе не случайно, что ей понравился Дрон, которого она якобы подстрекнула к избиению Алёши, если он хочет встречаться с нею. Екатерине последнее суждение Прасковьи переполнило чашу, она прямо сказала, что Нина на подобные выходки вообще не способна. Хотя она сама тогда точно ничего не знала, из-за кого конкретно дочь рассталась с Алёшей. Но только не из-за того, что Фёдор не одобрял её увлечения сыном своего недруга, так как дочь руководствовалась в своих поступках вовсе не запретами отца, а своими чувствами. Конечно, Прасковья всегда расхваливала своих расторопных, работящих дочерей, а её Нину заметно принижала, говоря иногда, как бы промежду прочим, что Нина медлительная, но любую работу, однако, выполняла добросовестно и умело. Последнее она прибавила ради красного словца, мол, им, матерям, есть кем гордиться. Однако из-за Нины Екатерина и разругалась с Прасковьей, оговорившей дочь незаслуженно, почти преднамеренно, что Маша больше пара Алёше, чем Нина, которая по этой, дескать, причине перестала ладить с Машей. И до сегодняшнего дня Екатерина не разговаривала с Прасковьей, которая, впрочем, затронула её сама, когда надо было идти на поляну, где уже стояли кучками люди…
Глава 13
Макару Костылёву было приказано явиться утром в немецкую комендатуру. Костылёв, подавляя страх, пришёл; ему было приказано, как руководителю колхоза, предъявить немецкому командованию список всех жителей посёлка, куда должны быть внесены все дети от грудного возраста и далее по старшинству. В общем, переписать всё население поголовно и вручить его тотчас же коменданту, фамилии которого Макар, как ни повторял вслух, так и не запомнил. На составление списка ему дали два часа, и он не знал, что ему делать…
От немцев Костылёв пришёл домой совершенно подавленный. Едва он объяснил жене, что произошло, Феня, видя, что муж весь побелел, а губы и руки дрожали, сама взялась за список, подозвав Шуру:
– Давай с тобой вспоминать всех наших людей, не то отца обвинят, что не хочет им служить…
– И себя тоже записать? – тревожно произнесла падчерица.
– Наверно, а может, и не надо? Что они всех пересчитывать будут? – задумчиво ответила она.
– Значит, мы часть пропустим, хотя бы самых маленьких…
– Ох, а вдруг они поймут? Что же делать? А ежели они тут надолго? Нет, всех запишем и себя тоже. Если отец будет старостой, он нас спасёт…
И такой список они подготовили, в котором было больше двухсот человек. Когда Макар прочитал, он сказал, что нужно вписать и тех, кто был на фронте. Их пришлось приписать ниже. И Макар, спрятав в боковой карман несколько исписанных страниц из школьной тетради, понёс с таким чувством, будто предавал своих земляков, что иначе и нельзя было истолковать. Но другого для себя выбора он не видел.
Немецкий майор, плотный, коренастый, но стройный, с энергичным, самодовольным холёным лицом, выдернул из рук мужика бумаги, подававшего их с явным нежеланием, выразив на смуглом загорелом с лета лице крайнее огорчение и робость, что всегда случается с людьми, когда вынуждены поступать вопреки своей воле.
– Гуд! Очъень карошо! – воскликнул офицер, глядя на Макара искрящимся уверенным взглядом. – Ти Костилёв? Гуд! Ти старост – не пойдёшь, ми назначай старост по добровольности. А ти, Костылёф, управляй общиной колхоз, арбайтен, ми не будем распускать вашь кольхозь, а служить Германий с твоим народом позволяем. Наш порядок – дисциплин. Свободу от большевик принёс германский зольдат…
Затем майор подал Макару белый лист бумаги с обращением к народу германского командования на русском языке. Костылёв нехотя взял, бегло скользнул глазами по жирному шрифту с изображением выше заголовка орла и свастики, и на него дохнуло чужеродным гербом, который таил в себе нечто зловещее, угрожающее, насаждающее, одним своим видом бесправие, подневольность, замешанные на страхе.
– Ти, наш требований прочитай всем колхозник, гуд?
Макар слегка кивнул, стараясь не глядеть на офицера, но его лицо приняло холодный и непринуждённый вид, что ему далось, прямо скажем, с чрезвычайным трудом. Он понимал, что прислуживать врагам подло, нечего тут кривить душой ни перед собой, ни перед людьми. Однако председатель знал, что этого не избежать и даже не представлял, что ему делать дальше, отчего несколько потерянно и вопросительно взглянул на офицера.
– Иди к своим граждан с этим документ, я приду скорё! – возвестил офицер.
И Костылёв поплёлся к клубу, где намечался сход и где уже собирался народ. Он увидел своих: жену Феню, сына Назара, дочь Шуру, почувствовав как никогда свою ответственность за их дальнейшую судьбу. Собственно, то же самое он испытывал и в отношении других людей. Он видел, что все они стояли как-то порознь, будто не видят друг друга, стояли своими семьями. Макар подошёл, поздоровался со всеми, и люди, как по команде, стали подтягиваться к нему, глядя выжидающе, настороженно, боясь спрашивать то, с какой вестью он пришёл от немцев. Чуть поодаль лениво, со скучающим видом, стояли немецкие солдаты и курили, переговаривались и смеялись, живо оглядывая девок, что-то им показывали.
Люди собрались почти все: и девки, и ребята, и женщины, и старухи, старики. Хотя последних было не столь много: дед Климов, дед Осташкин и ещё несколько. Кто-то остался сидеть дома с маленькими внуками. Екатерина видела, что бабы пришли и с меньшими детьми, а её остались дома, но такая она была не одна.
– Я не знаю, что они замышляют, – скрипучим голосом сказал Макар Пантелеевич, – кажется, наш колхоз останется, будем так же работать, как и работали. Думаю, в этом наше спасение, ведь без вас колхоз не может существовать. Трудитесь с верой, что для себя, и выходите все, а сейчас их комендант что-то скажет вам. – Макар неловко замолчал. Люди вздыхали, переминались с ноги на ногу. Ребята подходили к девкам, заговаривали о том о сём, улыбались, смеялись, отпуская какие-то шутки, остроты. Ксения пересматривалась с Гордеем; Маша смотрела на Алёшу, Анфиса переводила взгляд с одной кучки людей на другую. Дрон помахал ей рукой, сейчас Нина его почему-то не интересовала, и отношения с которой равнялись нулю. И он думал, что пора заняться Анфисой, чем он хуже Гриши, хотя Танька Рябинина явно неровно дышала на него, бывало, часто к нему подкатывалась. Шура Костылёва при его взгляде важно отворачивалась, и он её ненавидел. А Надька Крынкина смотрела на ребят так, будто раньше их никогда не видела. Она была пухлощёкая, с озорным блеском в глазах, прижимала бережно к своему подолу двух своих сестрёнок.
Андрей Перцев важно, степенно, как старик, прохаживался подле неё, словно оберегал девушку от посторонних взглядов. Но, к сожалению, девушка его почти не замечала. Однако Надька уловила взгляд Дрона, уставившегося на неё своими колючими глазами, и она тоже воззрилась на него, пытаясь понять, что ему надо от неё? С Дроном, если вдруг случалось с ним где-либо встречаться, она не разговаривала. Хотя находила парня по-своему интересным. Зато Дрон мог легко затронуть её, но с одними и теми же подковырками по поду того, что мать была баптисткой, приучившей её к своей вере. Но ещё учась в школе Надька уяснила, что религия мешает людям свободно жить, что она давно стала пережитком прошлого. Словом, в понимании девчонки религия была не в моде, её объявили вне закона, а главное, эта вера считает любовь дьявольским наваждением.
Надька видела, что и мать, оторванная ещё на родине от своих сестёр по религиозной секте, работая здесь, на птичнике, вращаясь среди менее набожных женщин, сама уже утрачивала своё божечтимое рвение. Она уже не с тем послушанием, как бывало раньше, ежевечерне становилась на молитву, беря с собой в горницу дочерей. Единственно с соседями почти не зналась, живя практически отшельницей, и в посёлке их семья была малозаметна. И только старшая дочь отошла от её веры. Но и с молодёжью ещё не сошлась, никак не преодолев в себе косное мышление. За последнее лето девушка вытянулась, похорошела и обещала быть статной, красивой. Но уже сейчас всё у неё оформилось: и грудь, и фигура, чего, кажется, она в полной мере ещё не осознала. Вот и соседского парня она серьёзно не принимала, думая, что Андрей с ней только шутил. Хотя у самой уже появлялись мысли о своём парне, представление о котором у неё вряд ли ещё сложилось. Андрей был несколько неуклюж оттого, что не по возрасту располнел, но вполне располагал к себе приятной, покладистой наружностью. Подбородок у него как-то окладисто заворачивался, чем невольно даже смешил.
Дрон всё продолжал сцеживать на неё свой нагловато-острый взгляд, лукаво кривил губы, выдувал в её сторону струю дыма от папиросы. Это увидела Маша Дмитрукова и вдруг, немотивированно для окружающих, засмеялась. Прасковья вскинула на дочь недоумённый, полный испуга, взгляд.
– Да ты чи сказилась, што ли? – придушенно прикрикнула мать, замахнувшись на Машку, которая отстранилась от матери, нисколько не теряя весёлости.
Надька перевела взгляд на Машку, думая, что та хотела обратить внимание Дрона на себя. И это ей почти удалось, так как не только он глянул в её направлении, но и другие люди: особенно парни и бабы, находя при этом её выходку нелепой и непонятной.
Сёстры Дрона стали раскачивать брата, точно пытаясь таким образом образумить его, хотя сами вместе с ним смеялись. А все трое они вызывали негодование у своей матери. Марья по очереди хлопала их по спинам. И толпа людей, скованная страхом неизвестности, враз оживилась: лица людей осветились радостными, удивлёнными, ехидными улыбками, а некоторые старики потешно хватались за животы руками и смеялись, словно на цирковом представлении.
Снег вдруг перестал порхать, изредка ветерок резво набегал, поднимая позёмку по снежному насту, отвердевшему за прошлые дни. И наметались свеи, а под заборами дворов, клуба, школы росли сугробы островерхими козырьками, закруглявшимися во внутрь, и создавались затишки. Голые тонкоствольные топольки без конца раскачивались на сухом колком ветре, обжигавшем лица людей.
Пока бабы подходили друг к другу и о чём-то переговаривались, Дрон улучил момент и поманил к себе Надьку. Она не верила, что он зовёт её, а не Машку или Таньку. И тогда девушка вдруг по наитию двинулась к нему, шедшему к ней навстречу. Вот они сошлись к неописуемому удивлению всех людей, что заставило Андрея воззриться на новоявленную парочку, так, будто она вытащила у него кошелёк, чтобы передать Дрону.
– Слушай, Надюх, есть дело, а давай заведём дружбу, чего нам шарахаться, ты такая деваха, что закачаешься! – проговорил несколько вальяжно Дрон.
– А ты попробуй, если такой смелый, – засмеялась она, оголив белые ровные зубы.
– И попробую, вот как немцев шуганем!
– Кто их отсюда прогонит, пока наших нет, – удивилась девушка. – Пойду я, а то мать смотрит.
Но в этот момент Андрей очутился двумя прыжками рядом и с ходу двинул в ухо Дрона, отчего тот не устоял и свалился в снег. А потом Андрей саданул его ногой в спину. И следом толкнул слегка Надю.
– С ума спятил, лешак таёжный! – вскричала звонко девушка. Дерзкий, разбойничий поступок парня застал всех врасплох, что люди не сразу поняли: и из-за чего на девушку налетел Андрей? Ведь для многих его отношение к Наде было неизвестно. Это происшествие немного отвлекло всех от своих нелёгких дум…
– Иди, шальная, а то тебе матка ещё добавит! – буркнул недовольно парень, и его лицо покраснело.
– Я тебе кто – жена? – огрызнулась она с долей обиды.
Андрей толкнул её опять, а в это время Дрон поднялся, отряхнул с фуфайки снег. Нагнулся за шапкой, ощущая как будто полную контузию. Ухо звенело, отдаваясь тугой болью. Голова враз отяжелела давящими ощущениями, словно кто-то мял её в руках, как тыкву. Дрон про себя ругнулся, весь бледный. Сквозь толпу на него взирала настороженно и удивлённо Нина, и ей было почему-то неловко за Дрона. Хотя она видела, с какой одержимостью, будто ей назло, он разговаривал с Крынкиной. Своим поступком он хотел вызвать у Нины ревность, а получилось наоборот, просто поставил себя в унизительное положение.
Дрон, не глядя на Нину, зло сплюнул, решив, что такой подвох себе не простит, а Перцеву всё равно отомстит. Его дружки Жора и Пётр сейчас были не с ним, они даже носа не высовывали, спрятались у маток под юбками. А ведь подбивали его, Дрона, уйти на фронт добровольцами. Но он не согласился, а у них самих духу не хватило, оказались трусами. Дрон достал папиросу, между прочим, немецкую, которой его угостил вражеский солдат. Вчера они устроили кутёж, увидев русскую гармошку, солдаты заставили его на ней играть. Но немецкие наигрыши ему были незнакомы, и тогда по их же заказу наяривал русские плясовые. Мать, видя, что он выделывал с немцами за компанию, неистово крестилась. Дочерей спрятала в чулане ещё до прихода немцев и потом носила им туда ужин. Солдаты оказались нелюбопытны и небдительны, балаболили и на своём, и на ломанном русском, хотели, чтобы Дрон привёл им русских девок, и смеялись же над своей затеей. Даже предлагали вступить в их армию, но Дрон прикинулся непонимающим, понимая между тем, что немцы говорили несерьёзно, даже с какой-то издёвкой, словно пытались таким образом вызнать его настоящий патриотический настрой, верен ли он своей родине. Собственно, его ни одна армия не прельщала, но от воинского долга он не собирался уклоняться. И теперь не знал – призовут ли его когда, но в ближайшее время точно был уверен – не призовут.
Глава 14
От школы энергично, решительно шагало несколько немецких офицеров. Подойдя к выгону, они остановились в нескольких шагах от толпы людей, которые в миг замерли, обратив всё своё внимание на оккупантов. Мальчишки, одолеваемые крайним любопытством, проталкивались сквозь толпу поглазеть на высоких немецких чинов.
Бабы не смогли удержать сыновей. Екатерина, к своему ужасу, увидела среди других мальчишек своих сорванцов и обомлела. Но она так сильно переживала за сыновей, что даже не хотела, чтобы это поняли дочь и сын, которые стояли с ней рядом. Они тоже увидели братьев и взглядами сказали матери, что в этом ничего страшного нет…
Немецкий офицер обратился к населению с небольшой речью, смысл которой сводился к тому, что немецкая армия не воюет с простым народом, они, немецкие солдаты и офицеры, принесли им настоящую свободу. Никто не пострадает, если не станет вредить германскому командованию, и они здесь как освободители от большевиков. Весь порядок, существовавший до прихода германских войск, к которому люди привыкли, сохранится и впредь. Немецкой армии нужны продукты, провиант, а большевики уничтожили колхозное поголовье скота, чтобы им не досталось. Отныне всё производимое в колхозе будет передаваться немецкой армии. Солдаты и офицеры, расквартированные по домам, становятся на продуктовое довольство по согласию хозяев, за что немецкое командование вынесет им благодарность как служителям третьего рейха. Немцы обещали научить их жить по-германски, люди не должны верить советской пропаганде, называвшей Германию истребительницей славянских народов. В начале войны с большевистской Россией были уничтожены массовые очаги сопротивления германским войскам, и для германского народа война скоро закончится победоносно. Отныне и навсегда Германия и Россия будут жить вместе как единое государство…
Люди внимали лживым обещаниям вражеского офицера безропотно, не издав ни одного звука протеста, хотя по их застывшим хмурым лицам, полным внутреннего напряжения и отчаяния, было видно, что немцам никто не верит. А у кого-то появился даже испуг, у кого-то негодование, что враг ведёт себя чересчур самонадеянно и за них решает их судьбы. И сейчас офицер должен сказать то главное, ради чего собрал народ, не выслушивать же только восхваления своей армии. Никто не просил их освобождать, так как это их личное дело, как относиться к советской власти. И вот офицер начал говорить о том, какая постигнет судьба людей с этого дня, если не станут выполнять их требования.
– Ви все будете служить Германий, – продолжал между тем офицер. – Ми не повезёмь вась в Германий. – Как только он это сказал, толпа несколько зашевелилась, задвигала ногами на месте: – Ми не каратель, ми фронтовой зольдат интендантский часть. На нас возложена важный миссий и продовольствий и ми вас призываем оказивать нам всяческий содейстий. Из ваших человек ми назначай старост на добровольных начал. Итак, кто из вас хочьет сказать слов? – он решительно обвёл глазами толпу, где преимущественно были почти одни женщины, не считая девок, парней, детей и подростков. Но все молчали, робко глядя на офицера, который сейчас остановил свой взор на костлявом, высоком старике Никите Андреевиче Осташкине. Затем он увидел Костылёва, стоявшего почти в первом ряду.
– Костилёфь, ком я вольт, бите! – поманил его рукой, и Макар Пантелеевич нехотя пошёл. Когда он остановился перед офицером, доставшим из кармана листок бумаги и заставил его читать список, председатель с облегчением понял, что ему не надо читать воззвание, которое лежало в его кармане, так как в своей речи офицер уже изложил своими словами то, о чём там говорилось. И Костылёв, приглушённым от волнения голосом, стал называть людей по списку, а немец приказал выходить и становиться в стороне от всех остальных…
Список открывался его членами семьи, что для многих явилось неожиданным поступком председателя, не сделавшим поблажки для своих родных. А ведь вполне мог назвать их в числе последних, но решил не рисковать своей репутацией, чтобы не навлечь на себя осуждение и презрение людей. Когда Костылёв назвал всех, он почувствовал во всём теле жар и лихорадочное состояние оттого, что будто подверг людей телесному наказанию. Потом офицер заговорил сам:
– Карошо! А теперь кто желает быть старост? Костылёв? – обратился он к председателю. – Сегодня ви рабатай в колхозе карошо! Ню, кто хоцет бить старост иль никто? Плёхо, плёхо! Ми тёгда подскажем кто… – он не договорил, так как из толпы вышел старик Осташкин.
– Ну, чаво там, – просто сказал Никита Андреевич, приосанившись, выпрямляя спину и приглаживая рукой роскошные усы.
– Ти казак? – спросил офицер зачем-то.
– Не-ет – ответил важно Осташкин.
– Карошо! Этот ваш староста! – обратился офицер к людям. – Как тьебя зовут?
– Я Осташкин Никита Андреевич. Могу ли я узнать, господин офицер, – начал старик. – Должен ли я своих односельчан защищать от мародёрства ваших солдат?
– О, бите! Ми этого не допускай, а ви защищай, – горячо сказал офицер. – Ти умный старик, карошо служи Германий. Ти отвечай за любой собитий в посёлка. Докладывать всё мне, что творят твоя люди вредного против немецкий зольдат.
Затем офицер сказал, что с завтрашнего дня молодёжь поедет на работу в город, и будет там находиться. Кто туда поедет конкретно, вечером узнают от старосты. А пока все могут расходиться по своим хатам, чтобы потом идти в колхоз на наряды, которые распределит председатель.
И люди немного сразу повеселели, что в условиях оккупации их жизнь пока кардинально не изменится. Офицер позвал Костылёва вместе со старостой следовать в комендатуру. А люди стали уходить, разделившись на две стороны улицы. Екатерина, как и другие женщины, присматривала за детьми, чтобы ненароком не убежали поглазеть на невиданную немецкую технику. Бабы шли и обменивались впечатлениями от всего того, что недавно услышали. На той стороне улицы слышался грубоватый голос Домны, резкий смех Зины Рябинкиной, а её поддерживала Василиса Тучина.
– Натаха, чи то твоя подружка Домна раскудахталась? – спросила Прасковья, идя с ней.
– Пущай тешится, иж как напугали немчуры, у меня до сих пор ноги, как ватные, – ответила Натаха Мощева. – Ой, сколько страху напустили, а нам баяли такие-растакие, звери! Вешают, расстреливают, в плен уводят, а вони вон как удумали…
– Дак, ежели им чё не так сбалакаешь, и заметут за милую душу, не-не, надоть немыми быть, – говорила Прасковья. А другие бабы прислушивались к ним и молчали. – А чего же вон как его, Осташкин, назвался, кто его тянув за язык? Макарка-то увэсь заробив, бел, як сметана.
– Чего-чего, а того, мужиков нет, и сам захотев выслужиться перед немчиной, а ён мужик их ахвицер ладный и на зверя не похож, да все они и нечаво. Ой, и чаво я раскрываю хлебало, молчала бы, так нет, – посетовала Натаха Мощева, качая головой и между тем про себя подумала: «Ежели ба Афанас був, дак, ён и сам к ним пошёв бы, сумев к сытой власти притулиться и уйти от неё с кушем, и к немчирной тоже ба прилепився.»
И шли уже дальше молча, загадывая, как им поступать с хитринкой для себя, чтобы немцев не раздражать
Глава 15
Домна Ермилова, живя вот уже который год без мужа, потеряла вконец совесть и стыд. У неё вчера стояли двое немцев, совсем ещё молодые. И от этого ли в ней, как у молодой кобылицы, намётом взыграла кровь, и она в полурастелешённом виде ходила по горнице перед немцами, которые устроили пир горой. Она им сама постаралась приготовить сытный ужин, поставила самогон. Но немцы покрутили бутылку и так и этак, понюхали и страшно кривились от крепко-зловонного запаха сивухи. Затем посмеялись, что у русских самогон ходовой напиток и остереглись заправляться им. Однако, приличия ради, выразили находчивой хозяйке неподражаемый восторг и ретиво достали флягу с немецким шнапсом, запах которого, в сравнении с самогоном, разумеется, почти не улавливался обонянием, растекавшийся по горнице, как приятный аромат.
Домна почти тут же почувствовала незнакомый чужеродный напиток, своим тонким запахом он порождал в душе странное, полное тоски томление, и тут же появлялся страх, что вот она одна сидит в окружении немцев, смотревших на неё вдобавок несколько свысока, лишённых напрочь мужского обаяния. Они действительно внушали какой-то суеверный страх, эти неведомые, непредсказуемые в своих иноземных повадках существа. Домна пыталась стряхнуть это жутковатое наваждение, какое они вселяли в неё, отчего сознание её погружалось в их мир всё глубже, и вот она уже находит немцев гостями почти желанными. Они пригласили её выпить с ними за компанию. У Домны прельстительно, угодливо загорелись зрачки, она вся сияла, как молодая девушка перед своим единственным кавалером. Немецкая водка показалась горько-сладкой, как судьба и любовь, словно идущие вместе рука об руку. Её щёки разрумянились, в голове разлилось хмельное кружение. Солдаты уплетали сало, лук, солёное говяжье мясо в отварном виде и картошку политую топлёным маслом. Они болтают по-своему весело, когда обращаются к ней, вставляют русские слова.
– Хлопцы, как же вас звать? – спросила Домна, глядя на них поочерёдно, нежно улыбаясь.
– О, меня Ирван, а его, – указал на своего напарника, – Клаус, а ти, битте, ктё, матка?
– Чё, рази я такая для вас уже старая, хлопцы, – сказала она. – Домной была увсегда, а водка у вас дюже хорошая, а моей, значитца, забрезговали?
– О, найн, ти молодой баба, а киндер – найн? Муж пуф-пуф в немецкий зольбадт, я-я? – спросил Ирван, и погрозил ей пальцем.
– Не-не, мой мужик, там… в тюрьме, загремел давно по своей дурости! – произнесла она. Но немцы, видно, не поняв её слов, только вежливо улыбались.
В хате у Домны как всегда было чисто, все предметы на своих местах, ни одного лишнего. Хорошо натоплена печь, от которой шло ощутимое тепло, растекаясь по обеим горницам. В передней стояла всё ещё кровать дочери, о которой Домна с начала войны ничего не слышала. Она уже забыла к матери дорогу, и сама Домна не наведывалась к Алине.
С немцами она посидела недолго и встала, они, видно, потеряв к ней интерес, бойко говорили о чём-то, затем Домна сняла вязаную кофту и надела летнюю цветную блузку, с глубоким вырезом на груди и с короткими рукавами. Причём она была без юбки, в одной комбинации, доходившей до колен. В таком виде Домна нарочно показалась перед солдатами. Они посмотрели на её блузку, что-то сказали весело, поняв легкомысленный настрой хозяйки покрасоваться перед ними. Их лощёные лица плутовато преобразились.