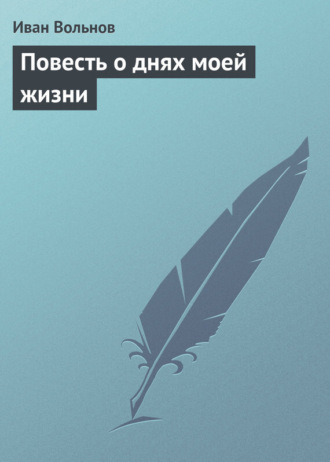 полная версия
полная версияПовесть о днях моей жизни
Я даже в азарт вошел.
– Конечно, не так! – сказала вдруг Мотя. – Где ж тут «лы»?
Подвинув ближе к себе книгу, сестра улыбнулась.
– Читай лучше: му-ра-вей, – делает она ударение на последнем слоге.
Я в удивлении смотрю на нее:
– Ты… почем же знаешь?
– Читай как следует – лучше дело будет, – проворчала она, принимаясь за вышивание.
– Ах ты, трепло! – вскипел я, задетый за живое. – Одно слово узнала и уж куражится, ведьма!
– Может быть, еще побольше знаю, – ответила сестра, вставая из-за стола.
Мать прикрикнула:
– Будет тебе хвастаться-то, ягунка! Вот в писаря скоро выйдешь.
Отец, не менее моего пораженный, твердил:
– Ай да Матрешила, ай да Матрешила! Разуважила ученика, ха-ха-ха! Шибко разуважила! Утерла сопли! Вот тебе книжки и грифель – лезь под лавку со стыда!..
Зло меня разобрало.
«Погоди, – думаю, – холера! я тебя подкараулю!..»
Случай представился скоро. В один из праздников, набегавшись вволю и проголодавшись, я вскочил в избу за хлебом. Наступили сумерки.
– Мамка, дай поесть, – закричал я, отворяя двери.
– Какая тебе еда, скоро ужинать, – ответила сестра. Она сидела одна.
– А где же мать?
– Поехала на свинье грушей торговать! Чего орешь, как сумасшедший, – не заблудится.
Сбросив полушубок и разувшись, я полез за стол.
– В карты, что ли, сыграть? – посмотрел я на сестру. – В свои козыри?
Та ответила:
– Играй, коли охота.
Смотрю: в руках у нее книжка. Попалась, барыня! Попалась, слава богу!
– Тебе кто же велел брать без спросу? – говорю ей ласково.
Мотя смутилась.
– Я ее не съела, – проговорила она. Я – поглядеть немного, – Сестра бросила книгу на стол. – Жадничаешь, жила? На – подавись!..
Мне, конечно, не книги было жалко, а обидно, что она меня недавно подкузьмила.
– Стой, за это вашего брата не хвалят – получай-ка вот! – и я треснул ее по голове. – Ты у меня будешь знать, как воруют чужие книжки!
Мотя ничего не сказала. Я ждал, что она тоже чем-нибудь меня ударит, и приготовился к обороне, но сестра отвернулась к стене и так простояла несколько минут.
Стыдно стало как-то: до слез ведь довел, а за что? Не съела ж, в самом деле, книжку?
– Мотя, – проговорил я нерешительно, – брось, я пошутил!.. Давай вместе читать. Тут, знаешь, есть статья про старика и смерть – смешная, будь она неладна! Давай, Мотя!
Сестра повернула ко мне лицо и смущенно улыбнулась.
– Я уже читала ее, – сказала она, – давай другое что-нибудь…
Губы ее вздрагивали, на глазах блестели слезы; сестра старалась незаметно их смахнуть.
Я с готовностью согласился, и Мотя отыскала в конце книги «Последнюю беседу Иисуса Христа со своими учениками», говоря, что она уж начала было читать, да я помешал.
– Ты будешь читать? – спросила она.
– Нет, читай уж ты, а я послушаю… Я до туда не дошел еще…
Сестра начала:
– «Заповедь даю вам новую: да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит богу. Вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного; но я не один, потому что отец мой со мною. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: я победил мир…» Тебе нравится? – восторженно твердила сестра, прерывая минутами чтение. – Слушай! Слушай!..
Читала она, кстати, лучше меня.
– «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю…»
– «…и был пот его, как капли крови, падающие на землю», – вновь прошептала Мотя.
В шепоте этом был восторг непередаваемый и ужас.
– Давай помолимся.
И мы молились. Сестра, стоя на коленях, говорила:
– Спаситель! Нам обоим хочется пострадать за тебя так же, как и ты за нас страдал, – Ваньте, брату моему, и мне, Матрене, рабе твоей…
Прижавшись лбом к холодному земляному полу, я повторял за ней самодельную молитву.
– Дай господи, счастья родителям нашим: отцу Петру и матери Маланье…
Я возражал:
– За отца-то не следовало бы: он бьет нас…
Но сестра не слушалась меня, продолжая просить счастья родственникам, и всей деревне, и всем людям…
XIIЭтот вечер, проведенный в жаркой молитве и чтении, стал началом других вечеров, ему подобных. Как-то так вышло, что у нас с сестрою оказался неисчерпаемый источник душевных слов друг для друга, ласк и внимания, тесно нас сблизивших.
В разговорах мы чаще останавливались на загробной жизни, на радостях праведников в раю и на муках грешных; читали жития святых, евангелие, псалтырь.
Я спросил однажды Мотю:
– Слушай, как ты научилась грамоте – ведь ты же не ходишь в школу?
Сестра улыбнувшись, ответила:
– Я уж и сама не знаю. Смотрела на тебя, как ты учишься, и запоминала… Ты, бывало, водишь пальцем по строчкам, слова разные говоришь – смешно мне, ну а потом – занимательным стало: «Почему так, – думала я, – крючочки и знаки, а через них – разные слова?» Втихомолку стала присматриваться, где какое слово писано и как ты его выкрикиваешь, а после, без тебя, разгляжу его, бывало, получше… Я скоро это поняла.
Однажды Мотя принесла с базара «Страшный суд». Наверху, с левой стороны, нарисован был желтый домик, похожий на перепелиную клетку, в решетчатых воротах святой с плешью, в белом венчике, в руках у святого – два ключа. Человек пять-шесть монахов и царей, опустив глаза и склонив головы, ждали очереди.
– Это рай, – сказала Мотя. – Если бы нам с тобой пришлось пострадать за веру, мы тоже бы там были.
Но как пострадать, мы не знали, и это являлось причиною наших немалых слез и молитв.
Внизу картины в разной посуде мучились поджариваемые грешники. Хвостатые и черные, как уголь, черти с пламенем во рту и козлиными ногами на острых копытцах, размахивая железными трезубцами, гнали мужиков и нищих в ад, в центре которого, – там, где пламя особенно густо, – сидел большебородый сатана в красной короне, с воловьими глазами, длинным, горбатым носом и железными крючковатыми когтями. На коленях у него Иуда-христопродавец – рыженький, тщедушный мужичонка с кошельком в руках и без штанов. Над адом – змей с разверстой пастью, копьеобразным жалом и широкими кольцами красных грехов по гибкому зеленому телу; рядом – рыба-кит с полчеловеком во рту и зверь лесной тоже с полчеловеком. На палец повыше – воскресение мертвых, наверху – спаситель, бог отец, бог дух, апостолы, Иван Креститель – мой ангел – в вывороченной шубе, пресвятая богородица, ангелы и мученики.
Я рыдал, глядя на картину, каялся Моте во всех своих грехах, и сестра каялась. Ночью мне снились черти. С ужасом вскакивая с постели, я становился на колени перед иконами и, обливаясь холодным потом и слезами, просил прощения у бога.
Долгое время меня пугало представление о вечности, и слово «никогда» доводило до отчаяния, чуть не до припадков. Этим словом нас пугал законоучитель в школе.
– Кто грешит, – говорил он, исподлобья щупая глазами нас, – кто грешит, тот век будет в огне гореть, никогда не прощенный… – и грозил пальцем, пожелтевшим от курения. – Лучше б тому не родиться!
Ад мне представлялся ревучим потоком раскаленной смолы, в которой за ложь и непочтение к родителям, за обжорство, воровство и курение табаку я вечно буду гореть, никогда не сгорая, вечно мучиться и плакать, никогда не прощенный сердитым богом. Я пытался всеми силами представить конец «никогда», но не мог. Крича неистово, в полусне-полубреду молился, целуя иконы и землю, прося у них заступничества, помощи, прощения, пока я жив. Мать хватала меня на руки и, прижимая к груди, ласкала, успокаивала, но я вырывался и падал снова на колени.
И Мотя молилась. Она похудела, глаза ввалились, остро выдались скулы, пожелтело и поблекло лицо.
Так было весь пост. Весна и работы отвлекли немного от самобичевания, чему помог отчасти сон: я видел себя на старой княжьей мельнице, окруженным ребятишками и маленькими девочками, у которых за плечами были крылья. Сестра сказала мне, что это ангелы, радующиеся моей праведной жизни. В эту пору мы решили с нею стать преподобными, для чего закопаться где-нибудь подальше от людей по шею в землю, как Иван Многострадальный, или жить в лесу вместе со зверями, как святой Тихон Калужский. Подоспевшая страда, когда людям впору было передохнуть от изнеможения, заглушила затею: о подвигах и спасении я перестал думать, хотя еще долго молился все так же усердно и так же горячо…
С глубокою отчетливостью запечатлелась в душе моей такая сцена из школьной жизни. Раннею весной подвыпивший отец с компанией соседей и родственников, зайдя однажды в избу, сказал мне:
– Почитай нам что-нибудь, сынок.
Сынок! Я даже не поверил! Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда он назвал меня сыном своим. Захватило дыхание от радости, хотелось броситься к нему на шею и заплакать счастливыми слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-нибудь ласковое, душевное…
Было вознесение. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увлечением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко звенело чудное слово: «сынок», что все невольно залюбовались мною.
А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.
– Милый мой, славный Ванюша… дитятко мое…
У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде, изрубцованные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами глаза ласкали и грели.
– Хороша эта штука – грамота, – сказал кто-то, вздохнув. – Карапуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы, грешные: смотрим в книгу, а видим фигу.
– Учись, родной, учись… – шептал отец. – Я не буду приневоливать тебя к работе нашей, пустая она и неблагодарная… Учись!.. – тряхнул он головою. – Находи свою светлую долю, я не нашел… Искал, а не нашел… – Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в землю: – Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел… да… и не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, больше… Учись, ты, может быть, пробьешь себе дорогу… Мы умрем скотами, падалью, а ты ищи свое счастье и учись, понял?
– Понял, – прошептал я, прижимаясь к нему.
Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.
– Эх ты, Ваня, Ванечка, голубчик ты мой!..
Я разрыдался от счастья.
XIIIОсень. Сбившись в плотную кучу, мы сидим на берегу реки – Цыган, Тимошка, Мавра, я и еще кое-кто из ребят. Рассказываем друг другу разные истории, смотрим на тихую воду и белую паутину, которая топкими светящимися нитями летает по воздуху, цепляясь за чапыжник и древесные ветви. Мечтаем.
– Лето прошло, – задумчиво говорит Мавра.
Пока еще играет солнце, отражаясь перламутровыми блестками в реке; золотится разостланный по лугу лен; над нами вьются ласточки, кувыркаясь и ныряя в светлом и прозрачном воздухе; крикливою стаей мечутся скворцы, перепархивая с места на место, но во всем уже чувствуется особая, осенняя усталость: как будто земле и небу, реке и ласточкам захотелось смертельно поспать, отдохнуть, собраться с новыми силами; жмурится солнце, бодрясь и скрывая от людей докучливую зевоту: красновато-бурыми и лиловыми мазками оно бросает свои лучи по серым облакам, далекому лысому плоскогорью, по вершицам деревьев и спокойной глади дремлющей реки, силясь зажечь ярким полымем небо, расцветить багрецом даль, позолотить вершины, но сейчас же торопливо срывает краски: ни к чему-де это – зима скоро, стужа.
Стыдливо развернула последнюю зелень и последние цветы земля: не хочет сознаться, что и она устать может, и ей ли, богачке, щеголять теперь чахлым клевером и пыльным подорожником, размашисто-лапчатыми лопухами, дягилем да конским рыжим щавелем?..
Тихими сумерками ложатся неуверенно прозрачные тени прибрежных ракит на серовато-пепельную землю; прощально улыбается день. За рекой, на княжеских покосах, мохнатыми шапками высятся стога, с кучками ворон на вершинах. Длинными рядами тянутся неубранные копны ячменя и пшеницы, а меж них, с каймою полыни по сторонам, ужом ползет серая дорога. Морщинистая даль сливается, темнея, с частым гребнем леса.
– В волость книжки, говорят, прислали, – прерывает сонную тишину Цыган, цыркая сквозь зубы.
– Книжки, говоришь? Какие? – встрепенулась Мавра.
– Черт их знает – люди сказывали, – пожимает он плечами и, помолчав, добавляет: – Будут раздавать их, книжки-то… а зачем – не знаю… Велено будто читать, кто грамотен…
Подняв голову, смотрит мечтательно на небо:
– Эх, скворцы-то, словно пчелы, чёмер их схвати!.. Из ружья бы теперь…
Неожиданная новость глубоко запала в душу, и я весь вечер думал о книгах. Пытался заговорить о них с отцом и матерью, но те ничего не могли мне сказать.
– Я ведь в бумагах-то, сынок, не понимаю, – ответила мать, а отец, почесав поясницу, зевнул и полез на печку.
– Насчет новых оброков эти книжки, – проворчал он.
На крыльце затопал кто-то, хлопнула щеколда – Мавра прибежала.
– Завтра не сходишь со мною к Парфен Анкудинычу? – потупившись и искоса посматривая на домашних, промолвила девочка. – Знаешь, насчет этого…
Меня будто осенило.
– Непременно сходим, непременно! – закричал я радостно. – Как поднимемся, сейчас же сбегаем!..
Утром, постучав тихо в двери, мы пожелали вышедшему сторожу доброго здоровья, похвалили новую кадку, поставленную в сенях для воды, сказали, что кончается лето и близки занятия, потом справились об учителе.
– В книжки смотрит целый день, – ответил важно старик. – Дошлый он до книжек, страсть: день и ночь так и торчит, не разгибаясь, будто курица на яйцах. – Склонившись, сторож таинственным полушепотом говорит: – По-моему, бо-ольшущую надо голову иметь, чтобы одолеть по-настоящему писанье, бо-оль-шущую!.. Вон на Хуторах мужик был – Кузя Хлипкий – одну только библию прочитал, да и то ума решился, а у нашего их, может, двадцать пять, и все – одна одной толще… Посиди-ка над ними – хуже косовицы уломает.
По привычке вдруг звереет и шипит:
– Не галдеть!..
Мы смеемся.
– Ты, Ильич, там с кем воюешь? – послышался сзади голос учителя.
– Грачи к тебе прилетели; принимай, коли охота… Ноги шапкой вытри, бестолочь!
– Это вы, друзья? – радостно воскликнул Парфен Анкудиныч, выходя из комнаты и застегивая ворот рубашки. – Ну, здравствуйте! И ты, Мавруш, пришла проведать? Добре, добре… Идите в хату чай пить.
После четвертого стакана я сказал:
– Вот Маврушка насчет книжек все думает: что там за книжки присланы в волость?
– И ты думаешь, – сказала девочка. – Мы оба…
– Ага, насчет книжек – дело! – воскликнул учитель и рассказал нам, что у нас при волости будет бесплатная земская библиотека, откуда можно будет получать всем книги.
– Книга – нужная вещь: она – друг, – наставлял нас учитель. – Книга учит жить людей; непременно запишитесь.
Через неделю я получил: «Вениамин Франклин, его жизнь и деятельность» и «Полное собрание сочинений И. С. Никитина», а Мавра – «Австралия и австралийцы» и «Параша-Сибирячка».
– Спасибо скажешь и царю, – рассуждал Калебан, размахивая «Графом Монте-Кристо», завернутым в тряпицу. – Заботится о черни: книжки вот прислал, чтоб зимой не скуплю было, то, другое, пятое… Господа, паршивцы, его одолели, – повторяет он любимую мужицкую жалобу, – а то бы он не так показал себя.
Обе книжки я прочитал в один присест – за вечер и ночь.
Несколько раз мать поднималась с постели и насильно тушила лампу, хлопая меня по голове, отец грозил выбросить в лохань «дурацкие побасенки», потому что керосин теперь – четыре копейки фунтик, но я, переждав, когда они засыпали, снова зажигал огонь и читал.
Утром слипались глаза от бессонницы. Ползая по распаханным грядам и подбирая картофель, я несколько раз чуть не уснул, за что отец кричал на меня и называл нехорошими словами, а в душе у меня то вставала светлая чужая и далекая земля и в ней дерзкий человек, затеявший борьбу с небом, то грустные, тоскующие песни, так складно сложенные, такие звучные, простые и понятные.
Дотянув кое-как до обеда, я убежал с книгою стихов в амбар и снова перечитывал их, а вечером, при огне, сам написал стихотворение, озаглавив его:
Наша жизнь
Близко речки стоят хаты –Не убоги, не богаты:То без крыш, то без двора,Кругом нету ни кола,На стенах везде заплаты.Наш народ все неуклюжийИ подраться любит дюже;Он прозванье всем дает,В праздник песенки поет.Начиная с крайнего двора, я перечислял всех осташковцев – какие они есть:
Дядя Тихон – киловатый,А Митроха – жиловатый.Есть Ориша, толстый пупок.Есть и староста сельской –Кожелуп, дурак надутый,Он жену взял из Панской…И так – до другого конца всех подряд. Закапчивалось мое писание так:
Каждый день здесь ссоры, драки,Каждый день здесь визг и плач.Вот поеду с отцом в город –Там куплю я им калач:Может, бог даст, перестанутИ немножко отдохнут,Драться-биться позабудут,Покамест калач-то жрут…Ребята, выслушав на следующий день мою песню, пришли в восхищение.
– Вот это важно, – сказали они, – только знаешь что? Матерщинной ее надо подперчить – слов пятнадцать!.. Тогда, понимаешь, – скус другой, петь будет можно…
– А если так, без матерщины? – попробовал защищаться я, – Ее и так бы можно спеть.
– Ну, брат, не та материя! – засмеялись товарищи. – Про всех бы, знаешь! Подошел к окну и выкладывай что надо, а матюком – на смазку, чтоб не отлипло!.. Как там у тебя про старосту?
Я прочитал.
– Ну вот! А тут бы – обложить его, ан смеху-то и больше б.
После ужина я присочинил, что советовали товарищи, и, кроме того, выдумал припев:
Гей, куриный бог – Барбос,Колышек-вояка.Киловатый, жиловатый,Шухер-мухер, черт горбатый,Жители без толку!Шумной оравой мы бегали вдоль деревни от одного окна к другому, распевая с гиком и присвистом срамную песню.
Вдогонку нам летели поленья и кирпичи; визгливые и злые бабьи голоса посылали проклятья и невероятные пожелания распухнуть, подавиться колом. А наутро говорили:
– Володемиров грамотей-то что, сукин сын, выдумал! Старшине бы пожаловаться!
– Поумнел, безотцовщина! Косить да пахать не умеет, а матом лаяться да песни зазорные петь – мастер! Горячих теперь бы дать с полсотенки кутенку, – пускай заглядывал бы в зад…
Пришедшую с жалобой Оришу отец выругал и выгнал из избы, а когда мы остались вдвоем, сказал мне:
– Начитался, стерва? Сам умеешь песни складывать? – и бил до тех пор, пока мог, – кулаками и за волосы.
А через день, когда я побежал в лавку за мылом, меня увидал Митроха.
– Поди ко мне, малец, на пару слов, – кивнул он пальцем.
Я бросился в сторону, и Митроха пустил в меня железными вилами, которые держал в руках. Одним рожком они воткнулись мне в ногу – повыше колена: я упал. Тогда он подскочил ко мне, бледный, говоря:
– Не сказывай дома – я тебе копейку дам!.. На борону, мол…
XIVГранью моего детства было событие, происшедшее год спустя, летом, в ночь под Илью-пророка, когда мне шел тринадцатый год. Я был судим тогда, в числе шести, всем Осташковским обществом, как вор, и ошельмован, как вор.
Вспоминать этот вечер и особенно этот день – годовой праздник Ильи Наделящего – тяжело, но я решил ничего не утаивать: пусть будет так, как было.
Убравшись с овсяным жнитвом и перевозив домой копны, мы стали ездить в ночное. В поле оставались горохи, проса, картофель и льны – лошадей без призору пускать было еще рано.
– Завтра праздник: можешь пасти до обеда, – сказал мне отец, – лошадь поест лучше, и ты выспишься.
Табун собрался в Поповом мысу у речки.
Темнеет июльское небо, чистое и далекое, ласково смотря на нас миллионами лучистых глаз, горят Стожары, искристо улыбается Млечный Путь – божья дорога в святой город Иерусалим, невидимая благословляющая рука трепетно держит Петров Крест над нашими головами; шуршат по берегу сухими метелками серые камыши, будто старики на завалинке разговаривают о прошлом. В заводи плещется рыба, ухает выпь, фыркают стреноженные лошади, жалобно блеет забытый пастухом ягненок.
Чутко насторожив уши, дремлют собаки. Звенят на молодых жеребятах колокольчики. В Борисовке, верстах в трех от табуна, в плотной вечерней тишине сочно шлепает валек: а-ах! а-ах!.. Кружится нетопырь.
А от реки поднимается пар, холстом расстилаясь по низине, потягивает свежестью, пропитанной илом и водорослями. Когда ветер забегает с другой стороны, чувствуется запах гари выжженного солнцем поля и полыни.
Ползая на коленях по росистой отаве, мы ощупью собираем в темноте щепки и хворост для костра. Несколько человек, подсучив штаны, режут тростник. Наступив босой ногою на жесткие корни или порезав о шершавые листья руку, они ругаются, а стоящие повыше смеются и советуют:
– Вы легонечко – не жадничайте… Не в чужом огороде.
Вокруг огня, лежа на боку и животе, подперев кулаками белые, черные и русые головы, лежат малыши, подкладывая в пламя упавшие ветви. Смотря на него синими, карими и серыми глазами, перебрасываются шутками, блестя крепкими, как из слоновой кости, белыми и ровными зубами. Огонь играет на их румяных щеках и темных ресницах, в спутанных курчавых волосах прячутся пугливые тени, молодой смех переливается и звенит, как хор веселых колокольчиков.
– Дядя, расскажи что-нибудь страшное, – пристают они к старику Капкацкому, николаевскому солдату, работнику старосты.
– Смешное лучше, – говорят другие, – про попа иль барина.
Изъеденный морщинами, с лицом, похожим на захватанную классную губку, Капкацкий жмурит под лохматыми бровями старые выцветшие глаза, из которых бьет слеза; седые щетинистые усы его пропитаны табаком и пожелтели, давно небритый подбородок торчит ежом, по переносью и лбу лежат темные борозды.
– Сказку? – хрипит он. – А на табак дадите?
Вперебой кричат:
– Дадим, дадим, ей-богу! Завтра целую пачку получишь!
– В некотором царстве, не в нашем государстве, а именно в том, в котором мы живем, жил-был царь Латут…
Делает длинную паузу, смотря подслеповатыми глазами в лица слушателей, и заканчивает речь под неистовое ржание и хохот грязною рифмой.
– Это присказка, а дальше будет быль, – говорит он, гнусавя и сплевывая беззубым ртом желтую тягучую слюну. – Сошел раз спаситель на землю, а с ним – Петр-апостол, Илья-пророк и Никола-зимний. Видят: бедный мужичок пашет землю. «Бог на помощь!» – говорят они. «Спасибо, добрые люди». – «Что сеешь?» – «Гречу». – «Уроди бог гречу». Идут дальше – богач с пашней ковыряется. «Здравствуй, мужичок-серячок, что сеешь?» Ничего им не сказал богатый – погордился, потому они идут с сумочками и в свитенках заплатанных, вроде как бы нищие. Объехал богач еще борозду, а спаситель и угодники стоят на меже – дожидаются. Спрашивает Петр-апостол: «Мужичок, что ты сеешь?» Гордый человек посмотрел на святого и сплюнул…
Прижавшись друг к другу, ребята впиваются острыми глазами в лицо повествователя, напряженно ловят каждую гримасу на нем, запоминают каждое слово и каждый взмах сухих рук.
Захрустело жнивье, послышался топот и глухой кашель.
– Ой, кто это? – испуганно встрепенулся маленький Ваня Зубков.
Посмотрев на шорох, Дюка равнодушно сказал:
– С телегой едут.
На фоне потухающей вечерней зари медленно двигалась черная точка, как жук, распластавший черные крылья.
– Сиденье вам, – охнула темная ночь.
– Садись к нам.
– Тпррру!.. Греетесь?
Мерцающий свет костра обнял круглое, обросшее пушистой бородой лицо, шапку спутанных волос, посконную рубаху и лапти.
– Архипка Мухин с работником, – шепнул Зубков соседу. – А я испугался: не межевой ли, думаю?
– Что ты! – пробасил тот снисходительно. – Межевой ездит в полночь, это надо знать.
Спутав лошадей, приехавшие расположились у костра, оба серые от пыли и пота, с красными воспаленными глазами.
– Умаялись, – просипел работник Так-Себе, подгибая длинные жидкие ноги. – Последки нынче добивали, осыпается овес-то…
Его движения медленны и неуклюжи, большой рот обметан волдырями, голова пыльна и нечесана; липкие, потные волосы свисают грязными прядями на уши и бронзовое лицо; заскорузлые руки – как разбитые крылья больной, бессильной, неуклюжей птицы.
– Сказки слушаете? Промышлять бы шли! – говорит, присаживаясь, Мухин.
С давних пор молодежь и дети делают набеги из ночного на деревню, обивая сады и огороды, таская чужих кур, уток и гусей. Это в обычае, считается молодечеством.
– Ступайте, – повторяет Архип, – я кувшин дам для варки. – Мужик щурит узкие глаза и причмокивает: – Важно бы теперь цыплятники хватить – сладкая она, молодая-то… Эх, вы!.. Бывало, вашу пору…



