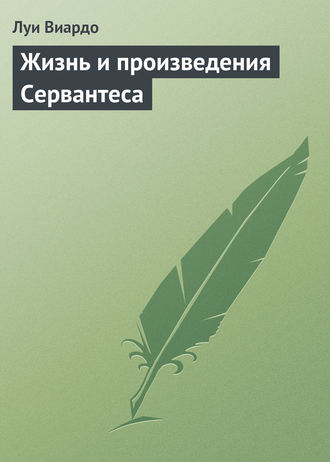 полная версия
полная версияЖизнь и произведения Сервантеса
Объяснив первоначальную причину возникновения Дон-Кихота вернемся опять к истории книги и её автора. По преданию, впрочем довольно правдоподобному и принятому на веру почти всеми, первая часть Дон-Кихота встречена была вначале с полнейшим равнодушием. Как и следовало ожидать, ее прочитали люди, которые не могли ее понять, и презрели те, которые поняли бы. Тогда Сервантес придумал пустить в ход под заглавием Buscapié (так назывались ракеты или шутихи, которые бросались вперед для освещения дороги) анонимный памфлет, в котором, делая вид, что критикует свою книгу, излагал настоящую её цель и даже намекал, что его герои и их поступки, хотя и выдуманные, имеют некоторую связь с современными людьми и событиями. Эта маленькая хитрость вполне удалась. Заинтересованные намеками Buscapié, люди умные прочитали книгу, и равнодушие публики быстро перешло в ненасытимый интерес к произведению Сервантеса. В одном 1605 г. первая часть Дон-Кихота выдержала в Испании четыре издания и почти одновременно с ними во Франции, Португалии, Италии и Фландрия появились еще другие издания этой книги.
Блестящий успех Дон-Кихота вывел Сервантеса из неизвестности и нужды, но в то же, время нажил ему множество завистников и врагов. Мы говорим здесь не только о тех пустых людях, которых пугает чужое достоинство и возмущает чужая слава: в Дон-Кихоте было столько литературных сатир, столько эпиграмм на авторов и почитателей современных книг и статей, что весь литературный мир не мог не заволноваться. Большие знаменитости во обыкновению приняли не сердясь направленные против них удары, и Лопе де-Вега, задетый, быть может, более всех других, не обнаружил ни малейшей вражды против нового писателя, который осмелился примешать ложку дегтя в бочку меда, называемую восхвалениями со всех сторон сыпавшимися на него. Его слава и богатство позволяли ему быть великодушным. Он был даже настолько любезен что признал в Сервантесе писателя не без приятности и не без слога. Но не то было с писателями второстепенными, которые должны были оберегать свой тощий запас славы и доходов: все они словно сорвались против несчастного Сервантеса, образовав хор открытых преследований и тайной ругани. Один с высоты своей педантической эрудиции называл его любительским умом, без культуры и образования, другой обзывал его кихотистом, надеясь оскорбить его этим; этот поносил его в маленьких памфлетах, современных газетах; тот посвящал ему злой сонет, издание которого Сервантес из мести брал на себя. Между более или менее значительными людьми, особенно усердно воевавшими с ним, нужно отметить поэта дон-Луиса де-Гонгора, основателя секты cultos, столь же завистливого по характеру, сколько дерзкого по складу ума; затем доктора Кристоваля Суарец де-Фигероа, тоже насмешливого и завистливого писателя, и наконец безразсудного Эстебана Вильегас, назвавшего Утехой свои ученические стихотворения и скромно изобразившего себя на заглавном листе в виде восходящего солнца, затмевающего звезды. прибавив к этой, быть может не совсем ясной, эмблеме девиз, рассеявший всякие сомнения: Sicut sol matutinus me survente, quid istae? Сервантсс, не злобивый и не тщеславный, вероятно, смеялся над этими нападками самолюбий, уязвленных его восходящей славой; но его любящее сердце больно было поражено отвращением от него нескольких друзей, принадлежавших к категории людей, которые любят лишь до тех пор, пока друг не превзойдет их достоинствами, и никогда не прощают своим друзьям возвышения над ними. К сожалению, в их числе был и Висенте Эспинель, романист, поэт и музыкант, написавший Marcos de Obregon, изобретший стих, называвшийся эспинелем, прежде чем его назвали децимой, и прибавивший к гитаре пятую струну. Впрочем, Сервантеса можно было бы назвать избранником Божьим, если б он не испытал этих неприятностей, примешивающих свою горечь в сладостям всякого успеха.
Издание Дон-Кихота совпало с рождением Филиппа IV, явившегося на свет в Вальядолиде 8-го апреля 1605 г. Годом раньше послан был в Англию кастильский коннетабль Дон-Хуан Фернанцец де-Веласко для переговоров о мире. Иаков I в ответ на эту любезность послал адмирала Чарльза Говарда, графа Гонтингэмского, представить договор о мире на утверждение короля Исванского и поздравить его с рождением сына, Говард, севший на корабль в Корунье с шестью стами англичанами, подъехал в Вальядолиде 26-го мая 1605 г. Он был принят по всем великолепием, какое только мог проявить испанский двор. Среди религиозных торжеств, боев быков, маскарадных балов, военных парадов, турниров, в которых принимал участие сам король, и всех празднеств, устроенных в честь адмирала, кастильский коннетабль дал ради него обед, за которым подано было до тысячи двухсот мясных и рыбных блюд, не считая дессерта и некоторых оставшихся не поданными кушаний. Герцог Лермский заказал Доклад об этих церемониях, напечатанный в том же году в Вальядолиде. Есть предположение, что автором этого доклада был Сервантес; по крайней мере, так можно заключить по сонету-эпиграмме Гонгоры, очевидца этих событий[5].
Благодаря этим празднествам, в семье Сервантеса случилось роковое событие, приведшее его в третий раз в тюрьму. Один рыцарь ордена Святого Иакова, по имени Дон-Гаспар де Эспелета, собиравшийся ночью 27-го июня 1605 г. перейти через деревянный мост на реке Эсгеве, был остановлен каким-то незнакомцем. Началась ссора, и когда оба противника обнажили шпаги, Дон-Гаспар получил несколько ран. Призывая помощь, он бросился, весь в крови, в один из ближайших домов. В одной из двух квартир первого этажа этого дома жила донья Луиза де Монтоиа, вдова летописца Эстебана де Гарибаи, с двумя сыновьями, а в другой Сервантес с семьей. На крики раненого Сервантес выбежал с одним из сыновей своей соседки. Они нашли Дон-Гаспара распростертым на под езде, со шпагой в одной руке и щитом в другой, и снесли его на квартиру ко вдове Гарибаи, где он на другой день и умер. Сей час же начато было алькадом de casa y corte Кристобалем де Вильяроэль следствие. Сняты были показания с Сервантеса, с его жены доньи Каталины де Паласиос Саласар; с его дочери доньи Изабеллы де Сааведра, двадцатилетней девушки; с его сестры доньи Андреа де Сервантес, вдовы с двадцативосьмилетней дочерью, но имени Констанца де Овандо; с одной монахини доньи Магдалены де Сотомаиор, выдававшей себя также за сестру Сервантеса; с его служанки Марии де Севальос, и, наконец, с двух друзей его, находившихся тогда у него в доме, де Сигалеса и португальца по имени Симон Мендес. Предположив наудачу, что Дон-Гаспар де Эспелета был убит из-за любовной интриги с дочерью или племянницей Сервантеса, судья приказал арестовать обеих девушек и также самого Сервантеса, его сестру и вдову Овандо. Только через восемь или десять дней, после опроса свидетелей и представления залога, обвиненные были выпущены на свободу. Из показаний, вызванных этим неприятным событием, видно, что Сервантес в это время занимался, чтобы прокормить этих пятерых женщин, которых был единственной поддержкой, еще и исполнением разных поручений, соединяя с литературой это глупое, но более доходное дело.
Надо думать, что Сервантес последовал за двором в Мадрид в 1606 г. и поселился в столице, где был ближе и к своим родным, жившим в Алькале, и к родным своей жены, жившим в Эскивиасе; кроме того, ему здесь удобнее было заниматься и литературой, и комиссионерством. Полагают, что он в июне 1609 г. жил на улице Магдалена, несколько позже за коллегией Лоретской Богоматери, в июне 1610 г. – на улице del Leon, № 9; в 1614 г. – на улице Las Huertas; затем на улице Герцога Альбы, на углу Сан-Исидора, откуда его выселили; наконец, в 1616 г. на улице del Leon, № 20, на углу улицы Francos, где он и умер.
Возвратясь в Мадрид, уже близкий к старости, без состояния и обремененный многочисленной семьей, встречая одинаковую неблагодарность к своим талантам и своим заслугам, в такое время когда посвящениями можно было заслужить пенсию, книги же не приносили ничего, брошенный друзьями и терзаемый соперниками, доведенный долгим опытом до утраты иллюзий, называемой испанцами desengano, – Сервантес окончательно уединился. Он жил, как философ, без ропота, без жалоб, и не в той золотой середине, которой Гораций желает служителям муз, а в нужде и бедности. Однако, и у него нашлись два покровителя: Дон-Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ толедский, и один просвещенный вельможа, Дон-Педро Ферландец де Кастро, граф Лемосский, автор комедии, называемой la Casa confusa, который в 1610 г. увез в свое Неаполитанское вице-королевство маленький литературный двор и со своей высоты я из своего далека не забывал старого изувеченного солдата, не могшего ехать с ним.
Кажется совершенно невероятным, хотя и служащим столько же к чести независимой души Сервантеса, сколько к стыду раздавателей королевских милостей, что такой выдающийся человек был предан забвению, тогда как толпа темных личностей получала пенсии, выклянченные ими в стихах и прозе. Говорят, что Филипп III раз заметил с балкона, как один студент расхаживал с книгой по берегу Мансанареса. Этот человек в черном плаще ежеминутно останавливался, жестикулировал, ударял себя кулаком в лоб и громко хохотал. Филипп издали следил за его пантомимой я вскричал: «Или этот студент сумасшедший, или он читает Дон-Кихота!» Придворные тотчас же подбежали проверить, угадал ли истину проницательный король, и, вернувшись, сообщили Филиппу, что он действительно читает Дон-Кихота; но в то же время никто из них и не подумал напомнить королю, в каком забвении живет автор такой популярной и любимой книги.
Другой анекдот, относящийся к более поздней эпохе, но тоже уместный здесь, еще ярче покажет, каким уважением пользовался Сервантес и до какой нужды он в то же время дошел. Предоставляем говорить тому, кто записал этот анекдот, – лиценциату Франциско Маркез де Торрес, капеллану архиепископа Толедского, которому поручена была рецензия второй части Дон-Кихота, «С достоверностью свидетельствую», говорит он, что когда 25-го февраля 1615 г. светлейший синьор кардинал-архиепископ, мой господин, навестил французского посла… несколько французских дворян, сопровождавших посла, столь же учтивые, сколько и просвещенные и интересующиеся литературой, подошли ко мне и к другим капелланам кардинала, моего господина, чтоб узнать, какие книги у нас были в то время в моде. Я наудачу назвал эту (Дон-Кихота), которую теперь разбираю. Едва они услыхали имя Мигеля Сервантеса, как стали между собой шептаться и превозносить то уважение, с которым относятся во Франции и смежных с нею государствах к разным его сочинениям, как Галатея, которую один из них звал наизусть, первая часть Дон-Кихота и Новеллы. Они так рассыпались в похвалах, что я вызвался повести их к автору этих книг, и они с величайшей радостью приняли мое предложение. Они стали подробно расспрашивать меня о его возрасте, профессии, звания и состоянии. Я должен был ответить, что он стар, солдат, дворянин и беден. На это один из них ответил: «Как! Испания не обогатила такого человека! Его не содержит казна?» Тогда один из этих господ очень тонко заметил: «Если его заставляет писать нужда, так дай Бог, чтоб он никогда не был богат, для того чтоб он, оставаясь беден, обогащал весь мир!»
Первое издание Дон-Кихота в 1605 г. вышло вдали от автора и напечатано было с его рукописи, очень неразборчивой. Поэтому в нем было множество ошибок. Первою заботой Сервантеса по переселении в Мадрид было напечатать свою книгу вторым изданием, которое он сам прокорректировал. Это издание, вышедшее в 1608 г., было лучше первого и послужило образцом для всех дальнейших.
Четыре года спустя, в 1612 г., Сервантес издал свои двенадцать Новелл, которые вместе с двумя, введенными в Дон-Кихота, и одной, найденной впоследствии, составляют все пятнадцать Новелл, которые он написал в разное время в Севилье: о них уже говорено было ранее, при обозрении этого периода его жизни. Книга, которая в выданной привилегии названа «весьма нравственным времяпрепровождением, где обнаруживается высота и богатство кастильского наречия», была принята в Испании и за границей так-же благосклонно, как Дон-Кихот. Лопе де Вега двояким образом подражал ему: во-первых, он тоже сочинил несколько новелл, которые оказались гораздо ниже Сервантесовых, во-вторых, воспользовался несколькими сюжетами этих новелл для сцены. И другие знаменитые драматические писатели черпали из того же источника, и между ними монах Фраи Габриэль Телдез, известный под именем Тирсо де Молина, называвший Сервантеса «испанским Боккачио», а также Дон-Августин Морето, Дон-Диего де Фигероа и Дон-Антонио Солис.
После Новелл Сервантес издал в 1614 г. свою поэму, озаглавленную Путешествие на Парнас (Viage al Parnaso), и маленький диалог в прозе, который он присоединил к ней впоследствии под заглавием Adjunta al Parnaso. В поэме, написанной в подражание Чезаре Капорали, он хвалил современных писателей и беспощадно разил тех адептов новой школы, которые своими смешными, безумными нововведениями губили прекрасный язык золотого века. В диалоге он жаловался на актеров, которые не хотели играть ни прежних его пьес, ни новых. Чтоб извлечь хоть какую-нибудь выгоду он своих драматических сочинений, Сервантес решился напечатать их. Он обратился к Вильяроэлю, одному из популярнейших в Мадриде книгопродавцев, но тот бесцеремонно ответил: «Один известный писатель говорил мне, что от вашей прозы можно многого ожидать, а от стихов решительно ничего». Приговор был справедлив, хотя несколько и жесток и очень обилен для Сервантеса, который «писал стихи вопреки Минерве» и, как ребенок, дорожил своей славой поэта. Вильяроэль все-таки напечатал в сентябре 1615 г. восемь комедий и столько же интермедий, с посвящением графу Лемосу и прологом, не только умным, но и очень интересным для истории испанской сцены. Лопе де Вега еще царил в то время, и соперник, долженствовавший свергнуть его, Кальдерон уже начинал свою каррьеру. Публика равнодушно приняла избранные пьесы Сервантеса, а актеры не удостоили поставить ни одной из них. И публика, и актеры были, может быть, неблагодарны, но не неправы. Можно ли осуждать их за то, что они пренебрегли комедиями, о которых Блас де Насарре ничего лучшего не нашел сказать, перепечатывая их сто лет спустя, как то, что Сервантес с умыслом сделал их дурными (artificiosamente malas), чтобы насмеяться над бессмысленными пьесами, которые тогда были в моде.
В том же 1615 г. напечатано было другое маленькое сочинение Сервантеса, имеющее связь с интересным обстоятельством. Испания еще сохраняла тогда обычай поэтических турниров (Justas poetieas); которые были при Иоанне II так не в моде, как военные турниры, и сохранились, например, на юге Франции под названием Jeux floraux. Когда Павел V канонизировал в 1614 г. знаменитую святую Терезу, то торжество этой героини монастырей дано было в качестве сюжета состязания, на котором одним из судей был Лопе де Вега. Нужно было воспеть экстазы святой в особой форме оды, называемой cancion castellana, и тем же размером, Айсим написана первая эклога Гарсилазо де ла Вега, El dulce lamentar de los pastores. Все сколько-нибудь известные писатели приняли участие в состязании, и Сервантес, сделавшийся в шестьдесят семь лет лирическим поэтом, также послал свою оду, которая хотя и не получила приза, но была напечатана в числе наилучших в Отчете о празднествах. происходивших во всей Испании в честь знаменитой девы.
В том же 1615 г. появилась еще и вторая часть Дон-Кихота.
Она уже приближалась к концу, и Сервантес, возвестивший о ней в прологе к своим Новеллам, очень усидчиво работал над ней, когда в половине 1614 г. появилось в Таррогоне продолжение первой части, написанное лиценциатом Алонсо Фернандесом, родом из Тордезильяса. Имя было вымышленное; под ним скрылся наглый литературный вор, который при жизни настоящего автора украл у него заглавие и сюжет его книги. Его настоящего имени так и не удалось открыть, но судя по изысканиям Майянса, П. Мурильо и Пеллисера, полагают, что это был аррагонский монах ордена проповедников и один из авторов комедий, над которыми Сервантес так мило смеялся в первой части Дон-Кихота, подобно грабителям на большой дороге, которые оскорбляют тех, кого обирают, мнимый Авельянеда начал свою книгу с того, что излил всю желчь злого и завистливого сердца, осыпая Сервантеса грубейшей бранью. Он называл его безруким, старым, нелюдимым, завистливым клеветником, ставил ему в упрек его несчастья, заточение, бедности обвинял в отсутствии таланта и ума и хвастал, что лишит его сбыта второй части его книги. Когда книга эта попала в руки Сервантеса, когда он увидал столько оскорблений в начале бесцветного, педантичного и гнусного произведения, полного наглости, то подготовил достойную его месть: он так поторопился докончить свою книгу, что на последних главах даже отразилась эта поспешность. Но ему хотелось, чтоб ничто не было упущено для возможности сравнения обеих книг. Посвящая в начале 1615 г. свои комедии графу Лемосскому, он писал: «Дон-Кихот надел шпоры, чтобы отправиться облобызать ноги вашего сиятельства. Я полагаю, что он приедет немного угрюмый, потому что в Таррагоне его сбили с пути и дурно обошлись с ним; во всяком случае он дознался, что не он фигурирует в этой истории, а другой, подставной, захотевший сделаться им, но не сумевший этого добиться». Мало того, Сервантес, не удостоивая называть обокравшего его литературного вора настоящим его именем, ответил в самом тексте Дон-Кихота (предисловие и глава LIX) на его грубые оскорбления тончайшими, деликатнейшими и остроумнейшими насмешками, обнаружив свое превосходство как в благородстве и достоинстве своего поведения, так и в подавляющем совершенстве своего сочинения. Но чтобы отнять у будущих Адельянед всякую охоту к подобным профанациям, он на этот раз довел своего героя до смертного одра, принял его завещание, исповедь и последний вздох, похоронил его, написал эпитафию и затем уже мог с справедливой гордостью воскликнуть: «Тут Сид Гамед Бен-Энгели оставил свое перо, но повесил его так высоко, что теперь уже никто не осмелится снять его».
Обратимся теперь к самому Дон-Кихоту и рассмотрим эту бессмертную книгу, капитальнейшее произведение её автора и всей Испании, независимо от сопровождавших ее обстоятельств.
Монтескьё говорит в Lettres Persanes, № 78: «У испанцев есть только одна хорошая книга – та, которая показала, как смешны все остальныя». Это, конечно, только шутка, столь же преувеличенная в смысле восхваления Дон-Кихота, сколько в отношении унижения других книг. Еслибы все достоинство Дон-Кихота заключалось в пародировании рыцарских книг, то он бы немного пережил их: победители похоронили бы вслед за побежденными. Разве мы теперь имеем в нем критика Амадисов, Эспландианов, Платиров и Кириэ-Элейсонов? Конечно, к прочим заслугам Сервантеса следует причислить и то, что он до самого основания уничтожил эту сумасбродную и опасную литературу. В этом смысле его книга – нравственное произведение, соединяющее в себе в высокой степени оба качества настоящей комедии: исправлять и забавлять. Тем не менее, Дон-Кихот есть не только сатира на старые романы, и мы попытаемся указать, какие видоизменения претерпел этот первоначальный сюжет в голове его автора.
Надо полагать, что, начиная свою книгу, Сервантес ничего не имел в виду, кроме нападок и насмешек на всю рыцарскую литературу: он сам говорит этом своем предисловии. Достаточно, впрочем, видеть странные упущения, противоречия и опрометчивости, которыми полна первая часть Дон-Кихота, чтобы понять из этого недостатка (если это только может назваться недостатком), что, он начал свою книгу под влиянием минуты, в раздражении, без определенного плана, и писал, как придется, чувствуя себя романистом от природы, словом, не приписывая никакого определенного назначения своему произведению, величия которого он сам не понимал. Сначала Дон-Кихот только сумасшедший, окончательно сумасшедший, которого следовало бы связать или, скорее, бить, так как этот бедный дворянин получает столько ударов от животных и людей, что даже для спины Россинанта их было бы чересчур много. Санчо Панса также не более, как толстяк крестьянин, из корыстолюбия и по глупости потакающий чудачествам своего. господина. Но это длится недолго: Сервантес не мог все время заниматься безумием и глупостью. Он привязывается к своим героям, которых называет «детьми своего ума»; приписывает им свои суждения, свой ум, деля все поровну между обоими. Господину он дает обширный, возвышенный ум, порождаемый в здоровой голове наукой и размышлением; слуге же он дает ограниченный, но верный инстинкт, врожденный здравый смысл и природную искренность, когда корысть не вмешивается в дело, словом, все, что можно получить от рождения и что развивается при помощи одного только опыта. У Дон-Кихота оказывается больным уже один только уголок мозга: у него мономания хорошего человека, которого возмущает несправедливость и увлекает добродетель. Он еще мечтает о том, чтоб сделаться утешителем скорбящих, покровителем слабых и грозой для надменных и дурных; но обо всем остальном он рассуждает чудесно, говорит красноречиво и скорее создан, как выражается Санчо, быт проповедником, чем странствующим рыцарем. С своей стороны, и Санчо уже не тот: он умен, хотя и груб, и хитер, хотя простоват. Как у Дон-Кихота только одна капелька безумия, так у него одна капелька веры в своего господина, которая, впрочем, оправдывается сознанием превосходства последнего.
Тут начинается удивительное зрелище: эти два человека, ставшие неразлучными, как душа и тело, выясняются и пополняют один другого, совместно действуя для цели столько же благородной, сколько и безумной; совершая сумасшедшие поступки и говоря мудрые речи: подвергаясь насмешкам и даже жестокостям людей и выясняя пороки и глупости тех, кто их осмеивает и тиранит; возбуждая в читателях сперва смех, потом жалость и наконец живейшее участие; умея почти столько же трогать, сколько веселить; забавляя и поучая и, наконец, составляя своим постоянным контрастом друг с другом и со всем светом непреложный фон для великой и вечно новой драмы.
Особенно во второй части Дон-Кихота ясно проявляется новая мысль автора, созревшего летами и званием света. В ней говорится о странствующем рыцарстве лишь на столько, на сколько это необходимо для продолжения первой части, чтобы их связывал один общий план. Но это уже не простая пародия рыцарских романов: это книга практической философия, собрание правил или, лучше сказать, притч, легкая и справедливая критика всего человечества. Новая личность, делающаяся другом Ламанчского героя, баккалавр Самсон Карраско, разве это не скептическое неверие, ничего не уважающее и надо всем насмехающееся? А вот и другой пример: кто, читая в первый раз эту вторую часть, не думал, что Санчо, сделавшись губернатором острова Баратарии, будет только смешить его? Кто не ожидал, что этот импровизированный властелин наделает на своем судейском кресле более глупостей, чем Дон-Кихот в своем уединении на Сиерра-Морене? И все ошиблись: гений Сервантеса замышлял гораздо больше, чем забаву для читателя, в то же время не забывая и этого. Он хотел доказать, что эта превозносимая наука управления людьми не есть тайна одной семьи или одной касты, что она доступна всем, и что для неё нужны более важные качества, чем знание законов и изучение политики: здравый смысл и доброе желание. Не изменяя своему характеру и не заходя за пределы своего ума, Санчо Панса судит и правит как Соломон.
Вторая часть Дон-Кихота вышла только через десять лет после первой, и Сервантес, печатая последнюю, совсем и не думал писать продолжения: тогда было в моде не кончать беллетристических произведений. Книги заканчивались, как поэма Ариоста, среди запутаннейших приключений и на самом интересном месте. Лазариль де Тормес и Хромой Дьявол не имеют развязки; Галатея также. Во всяком случае, не продолжение Авельянеды побудило Сервантеса написать свою вторую часть, так как она была уже почти кончена, когда появилась книга Авельянеды. Если бы Дон-Кихот был только литературной сатирой, то остался бы неконченным, и Сервантес, очевидно, написал вторую часть, чтобы, как уже сказано, изменить назначение своего произведения. Поэтому-то обе части этого произведения представляют единственный в своем роде пример в литературных летописях: вторая часть, написанная после перерыва, не только равна, но даже выше первой. Это потому, что исполнение её ничуть не ниже, а идея-мать более возвышенна и плодотворна; потому, что книга касается таким образом всех стран, всех времен; потому, что говорит с человечеством на универсальном языке; потому, что быть может более всех других книг в высшей степени возвышает редкое и драгоценнейшее из качеств человеческого ума – здравый смысл, достояние столь немногих…


