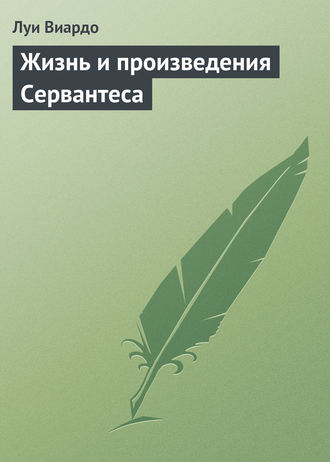 полная версия
полная версияЖизнь и произведения Сервантеса
Среди занятий, столь недостойных его, Сервантес не сказал, однако, музам последнего прости: он втайне поклонялся им и тщательно поддерживал священный огонь своего гения. В то время дом знаменитого живописца Франциско Пачеко, хозяина и тестя великого Веласкеца, был открыт для всех выдающихся людей: мастерская этого живописца, который, по словак Дон-Родриго Каро, занимался также поэзией, был «обычной академией всех великих умов Севильи». Сервантес считался в числе самых усердных посетителей этого дома, и его портрет фигурировал в драгоценной галлерее более ста выдающихся личностей, написанной и собранной хозяином. Он подружился в этой академии с знаменитым лирическим поэтом Фернандо де Геррера, которого его соотечественники почти совсем забыли, не зная ни дня его рождения, ни обстоятельств его жизни, и которого произведения или, лучше сказать, остатки произведений найдены в виде отрывков между бумагами его друзей. Сервантес, написавший на смерть Герреры сонет, был также другом поэта Хуана ди Хаурига, изящного переводчика Тассовой Аминты, перевод которой не уступает оригиналу и пользуется редкой привилегией быть причисленным к классическим произведениям. Живописец Пачеко занимался поэзией, а поэт Хауреги занимался живописью и написал портрет своего друга Сервантеса.
Во время пребывания своего в Севилье Сервантес написал большую часть своих повестей, собрание которых, постепенно обогащаясь, появилось уже много времени спустя, в промежутке между обеими частями Дон-Кихота. Так, приключения двух знаменитых воров, пойманных в Севилье в 1569 г. и которых история еще ходила в народе, дали ему сюжет для Rinconete y Cortadillo. Разграбление Кадикса после высадки в нем 1-го июля 1596 г. английского флота, под командой адмирала Говарда и графа Эссекса, внушило ему мысль об Испанке-Англичанке (la Espanola Inglesa). В Севилье же он написал Безразсудно Любопытного (el Curioso impertinente), которого включил в первую часть Дон-Кихота; Ревнивого Эстрамадурца (d Zeloso Estremeno) и Мнимую тетку (la Tia fingida), воспоминание о его пребывании в Саламанке, бывшее долго известным только по названию и недавно найденное в рукописи.
Со времени войн Карла V, познакомивших Испанию с итальянской литературой, и до Сервантеса, испанцы ограничивались переводами непристойных сказок из Декамерона – и переводами же подражателей Боккатчио. Сервантес имел право сказать в своем Предисловии: «Я считаю, что я первый начал писать новеллы по испански, ибо все повести, которые в таком множестве обращаются у вас в печати, заимствованы с иностранных языков. Те, которые я написал, мои, не заимствованные и не украденные: мой ум их выдумал, и мое перо их создало». Он назвал их Образцовыми новеллами (Novelas ejemplares), в отличие от итальянских сказок и потому, что между ними нет ни одной, как он сам говорит, из которой нельзя было бы извлечь какого-нибудь полезного примера. Кроме того, они разделены на серьезные (serias) и игривые (jocosas). Первых насчитывают семь, а вторых восемь. После Дон-Кихота Новеллы дают Сервантесу главное право на бессмертие. В них также в тысяче видах обнаруживаются плодовитость его фантазии, доброта его любящего сердца, насмешливый, но не язвительный ум, в высшей степени гибкий слог, – словом, все различные качества, которые в одинаковой степени блистают как в истории нежной Корнелии, так и в удивительной картине низменных нравов, называемой Rinconete y Cortadillo.
По смерти Филиппа II в 1598 г. воздвигнут был в севильском соборе великолепный катафалк, «изумительнейший надгробный памятник», рассказывает летописец церемонии, «какой человеческие глаза удостоивались видеть». Но этому-то случаю Сервантес написал знаменитый шуточный сонет, в котором так мило насмехается над бахвальством андалузцев, испанских гасконцев и который он называет (в Путешествии на Парнас) почетнейшим из своих сочинений[3]. Время появления этого сонета указывает на время пребывания Сервантеса в Севилье, из которой он вскоре выехал навсегда, и вот по какому случаю.
Сервантес, столь похожий на Камоэнса, испытал ужаснейшее из несчастий, преследовавших этого великого человека: он был обвинен во взяточничестве при исполнении им должности провиантмейстера – в Макао, заключен в тюрьму и предан коммерческому суду. Подобно певцу Лузиады, Сервантес своей бедностью легко доказал свою невиновность. В конце 1594 г., составляя в Севилье счета по своему комиссариатству и с трудом собирая задержанные платежи, он несколько раз отсылал деньги в севильских векселях в Мадридскую Contaduria-Mayor. Одну из таких сумм, собранную с округа Велес-Малого и достигавшую 7400 реалов, он передал наличными деньгами одному севильскому негоцианту по имени Симон Фрейре де Лима, который взялся передать ее в мадридскую казну. После этого Сервантес поехал в столицу, и, не найдя там своего казначея, стал требовать с него порученные деньги, но Фрейре успел между тем обанкротиться и бежал из Испании. Сервантес сейчас же вернулся в Севилью, но все имущество бежавшего оказалось уже в руках других кредиторов. Он обратился с прошением к королю, и декретом от 7-го августа 1595 г. приказано было севильскому судье de los grados, доктору Бернардо де Ольмедилья, взыскать с имущества Фрейре преимущественно перед другими сумму, данную ему Сервантесом. Судья взыскание произвел и деньги отправил генеральному казначею Дон-Педро Месиа де Тобар векселем от 22-го ноября 1596 г.
Трибунал Контадурии в то время с чрезвычайной строгостью очищал счета всех чиновников казначейства, которое было совершенно истощено завоеванием Португалии и Терсеры, походом во Фландрию, уничтожением непобедимого флота и разрушительными опытами со стороны нескольких финансовых шарлатанов, называвшихся arbitristas. Вызван был в Мадрид для отчета и главный сборщик, агентом которого был Сервантес. Он показал, что все документы, необходимые ему для отчета, находятся в Севилье у Сервантеса. На основании этого доказания, королевским посланием от 6-го сентября 1597 г. к судье Гаспару де Вальехо приказано было без суда и следствия арестовать Сервантеса и под конвоем препроводить его в столичную тюрьму в распоряжение коммерческого суда. Сервантеса немедленно заключили в тюрьму; но по представлении им поручительства в уплате 2641 реала (около 270 руб.), в растрате которых его обвинили, он был выпущен на свободу в силу нового королевского послания от 1-го декабря того же года, под условием, что он явится в Контадурию через месяц и уплатит числящийся за ним долг.
Неизвестно, чем кончилось это первое преследование Сервантеса, но несколько лет спустя, снова был поднять вопрос о тех же несчастных 2641 реале. Сборщик Базы Гаспар Осорио де Техада представил в своем отчете в 1602 г. расписку Сервантеса в том, что ему выдана была названная сумма, когда он был комиссаром, в 1694 г., в уплату податей, числившихся за городом и округом. Опрошенные об этом члены Contaduria-Mayor представили доклад, помеченный 24 января 1603 г. в Вальядолиде, в котором рассказано было об аресте Сервантеса в 1597 г. по поводу этой самой суммы и о взятии его на поруки, с присовокуплением, что с той поры он в суд не являлся. По этому-то поводу Сервантес и отправился со всей семьей в Вальядолид, куда Филипп III за два года до того перенес двор. Существует доказательство, что сестра Сервантеса, донья Андреа, занималась починкой белья гардероба некоего Дон-Педро де Толедо Осорио, маркиза де Виллафранка, который вернулся из экспедиции в Алжир. В её хозяйственных счетах, доказывающих семейную нужду, встречаются заметки и записи, сделанные рукой Сервантеса. Он покончил свои дела с коммерческим судом, доказав, что раньше уплатил долг, или заплатив тут же, потому что преследования прекратились и он спокойно прожил остаток своей жизни около того самого суда, который так жестоко обходился с ним. Эти мелкие подробности были необходимы для чести Сервантеса; но чтобы доказать, что его честность была вне всякого подозрения, достаточно было бы упомянуть, что он сам отзывается о своих многочисленных заточениях с остроумной веселостью. Это было бы уж чересчур нахально, если бы заточения эти были вызываемы каким-нибудь неблаговидгым поступком, и его враги, завистники и клеветники всего рода человеческого, упрекавшие его даже его изувеченной рукой, не преминули бы задеть его за более чувствительное место, чем авторское самолюбие.
Сведения об этой эпохе жизни Сервантеса составляют большой пробел в собранных о нем материалах. Ничего верного неизвестно о нем, начиная с 1598 г., когда он написал в Севилье сонет о могиле Филиипа II, до 1603 г., когда он присоединился ко двору в Вальядолиде. А между тем, именно в этот пятилетний промежуток, он замыслил, начал и почти кончил первую часть Дон-Кихота. Есть много оснований предполагать, что он уехал с семьей из Севильи в 1590 г. и поселился в каком-нибудь местечке Ламанчи, где у него были родные и где ему приходилось несколько раз исполнять поручения. Быстрота, с которой он в 1603 г. явился в коммерческий суд в Вальядолиде, заставляет предполагать, что он жил где-либо поблизости к этому андалузскому городу; кроме того, полное знакомство с местностями и нравами Ламанчи, обнаруживаемое им в его романе, также доказывает, что он там долго прожил. Возможно, что он жил постоянно в бурге Аргамавилья де Альба, и что, назначив этот же бург родиной своего безумствующего дворянина, он хотел осмеять местных дворянчиков, между которыми в это самое время возникли из-за каких-то прав на первенство такие скандальные споры и такие упорные тяжбы, что, по словам летописцев того времени, из-за них убавилось даже количество населения деревни.
Когда видишь, как Сервантес в своем прологе к Дон-Кихоту говорит, что сын его ума, «этот сухой, тощий, пожелтелый, сумасбродный… был произведен на свет в тюрьме, где присутствуют всякие неприятности и гнездятся все зловещие слухи», то с любопытством спрашиваешь себя, по какому поводу, в какое время и в каком месте дан был ему тот печальный досуг ума и тела, благодаря которому увидело свет одно из прекраснейших творений ума человеческого. За пределами Испании всеобщее мнение было таково, что Сервантес замыслил и начал свое произведение в подземельях святой инквизиции; но, как остроумно выразился Вольтер, нужно быть очень близоруким, чтобы так оклеветать инквизицию. Как мы преследовала судьба Сервантеса, но настолько он еще был счастлив, чтоб не иметь никакого дела с этим гораздо более страшным судом, чем коммерческий. О его заточении в Ламанче существует множество невыясненных предположений. Некоторые полагают, что это несчастье стряслось над ним в деревне Тобозо по поводу слишком сильного словца, сказанного им одной женщине, оскорбленные родственники которой отомстили ему этим, но большинство думает, что его упрятали в тюрьму жители бурга Аргамазилья де Альба, возмущенные тем, что он взыскивал с них невнесенную ими десятину в пользу приорства Сан-Хуан, или же тем, что он отнял у них необходимую им для орошения воду Гвадианы, чтобы делать там селитру. Верно только то, что еще и поныне в этом бурге показывают древний дом, называемый casa de Medromo, который с незапамятных времен считается по преданию местом заточения Сервантеса. Известно также, что несчастный сборщик десятины очень долго протомился в этой тюрьме и дошел до такого печального состояния, что вынужден был прибегнуть за покровительством и помощью с своему дяде Дон-Хуану Барнабеде Сааведра, гражданину Альвавара де Сан-Хуан. Сохранилось воспоминание о письме, написанном Сервантесом к этому дяде и начинающемся так: «Долгие дни и короткия ночи (безсонные) утомляют меня в этой тюрьме, или лучше сказал, в этой пещере…» В память об этом несправедливом мучительстве он начал Дон-Кихота следующими словами кроткой мести: «В одном местечке Ламанчи, об имени которого мне не хочется вспоминать…»
Вернувшись после тринадцатилетнего отсутствия в то, что называлось двором (la corte), т. е. в резиденцию монарха, Сервантес почувствовал себя, точно на чужбине. Другой король и другие фавориты правили государством; старые друзья его частью умерли, частью рассеялись. Если лепантский солдат и автор Галатеи и Нуманции не встретил ни правосудия, ни покровительства, когда его заслуги его еще были свежи в памяти всех, то чего мог он ждать от преемника Филиппа II после пятнадцати лет забвения! Тем не менее, побуждаемый жалким положением своей семьи, Сервантес сделал еще одну последнюю попытку: он явился на ауденцию к герцогу Лермскому «Атласу, на котором лежала вся тяжесть монархии», как он сам выразился, т. е. всемогущему раздавателю милостей. Надменный фаворит принял его презрительно, и Сервантес, оскорбленный до глубины своей гордой, чувствительной души, навсегда отказался от роли просителя. С этих пор, деля время между деловыми комиссиями и литературным трудом, он смиренно жил в полном уединении и нужде, на свои заработки и на пособия от своих покровителей, графа Лемосского и архиепископа Толедского.
Тяжелое положение, в котором находился Сервантес, бедный и отвергнутый, заставило его поторопиться напечатанием Дон-Кихота или, по крайней мере, первой его части, которая уже значительно подвинулась в рукописи. Он получил от короля 26 сентября 1604 г. разрешение на печатание своей книги. Но нужно было еще найти мецената, который принял бы посвящение книги и украсил бы ее своим именем. Сервантесу, неизвестному и бедному, необходимо было покориться этому обычаю, особенно при издании такой книги. Если бы эта книга, заглавие которой могло обмануть, была принята за простой рыцарский роман, то она попала бы в руки людей, которые, не найдя в ней того, чего искали, не увидали бы в ней также и сатиры на их извращенный вкус. Напротив, если бы книга сразу была узнана и понята, то к главным критикам присоединились бы слишком тонкие и смелые критики с различными намеками. Поэтому протекция была ему необходима, так как покровительство великого вельможи обыкновенно защищало книгу от этих подводных камней. Выбор Сервантеса остановился на Дон-Алонсо Лопец де Зунига-и-Сотомаиор, седьмом герцоге де Бехар, в одном из тех праздных аристократов, которые удостоивали наделить литературу и искусство улыбкой поощрения со стороны своего титулованного невежества. рассказывают, что герцог, узнав, что сюжетом Дон-Кихота служит насмешка, счел свое достоинство скомпрометированным и отказался от посвящения. Сервантес, сделав вид, что уступает его антипатии, попросил его только о позволении прочитать ему одну главу. Но удивление и удовольствие, вызванные в слушателях этим чтением, были так велики, что книга была прочитана глава за главой вся до конца. Автор был осыпан похвалами, и герцог, уступая всеобщих просьбам, дал себя умилостивить. рассказывают также, что одно духовное лицо, духовник герцога де Бехар, управлявший столько же его домом, сколько его совестью, завидуя успеху Сервантеса, стал едко критиковать как книгу, так и автора её, и упрекать герцога в милостивом отношения к обоим. Этот суровый монах имел, без сомнения, большое влияние на своего духовного сына, так как герцог вскоре забыл Сервантеса, который, в свою очередь, ничего более ему не посвящал. Он даже по своему отомстил им обоим, изобразив эту сцену и их самих во второй части Дон-Кихота.
Первая часть была напечатана в начале 1605 г. Прежде чем продолжать рассказ, необходимо сказать, каково было положение дел в момент появления книги.
Эпоха, в которую предполагается процветание странствующего рыцарства и в которую происходили приключения паладинов, членов этого воображаемого учреждения, относится к переходу от древней цивилизации к новой. Это было время темное, варварское, когда процветало право сильного, когда победа в дуэли заменяла собою правосудие, когда феодальная анархия то и дело опустошала землю, когда могущество духовенства, призывавшееся на помощь гражданской власти, только Божьим перемирием давало народам несколько спокойных дней. В такое время было бы, конечно, хорошо посвятить себя защите несчастных и покровительству угнетенных. Воин высокого полета, который отправился бы с копьем в руке я в полном вооружении по свету искать случаев проявить в этом благородном занятии сердечное великодушие я мужество, был бы благодетельным, славным существом, которое везде возбуждало-бы удивление и благодарность. Если бы он уничтожил несколько бандитов, которые опустошали большие дороги, или выгнал бы из берлог других, титулованных бандитов, которые, с высоты своих построенных на скалах замков, бросались, как орлы из гнезд, на легкую добычу, представляемую безоружными проезжими и прохожими; еслиб он освобождал узников из целей, спасал невинных от пытки, наказывал убийц, свергал узурпаторов, словом, если бы он в эти первые годы нового времени возобновил подвиги Геркулеса, Тезея, полубогов предшествовавшего тоже юного мира, – то его имя, переходя из уст в уста, сохранилось-бы в памяти людей со всеми прикрасами доисторических времен. С другой стороны, женщины, слабость которых еще не была охраняема общественными нравами, были бы главным предметом великодушного рыцаря. Ухаживание, эта новая любовь, неизвестная в древности и порожденная христианством, которое к чувственным наслаждениям прибавила уважение и веру вроде религиозного культа, присоединила бы приятное времяпрепровождение к кровавым похождениям закованного в латы судии, жизнь которого проходила-бы таким образом между войной и любовью.
Этот сюжет, если бы его хорошо разработать, мог бы дать материал не для одной книги, а для целой литературы. К истории странствующих рыцарей нетрудно было бы присоединить историю обычаев того времени, и воображению романиста представились бы описание турниров и празднеств, песни трубадуров и пляски жонглеров, религиозное паломничество в святые места и Восток со всеми его чудесами. А между тем, не на это обращали свое внимание авторы рыцарских книг; по крайней мере, не на этом они останавливались. Без малейшего внимания к истине и даже правдолюбию, они по произволу нагромождали грубейшие ошибки по истории, география и физике и даже опаснейшие нравственные заблуждения; они сумели отметить только удары копьями и шпагами, вечные битвы, невероятные подвиги, сшитые белыми нитками похождения без плана, без связи, без смысла; они смешивали нежность с жестокостью, порок с суеверием они призывали на помощь великанов, чудовища, чародеев и старались лишь о том, чтобы превзойти один другого преувеличением невозможного и чудесного.
Тем не менее, такого рода книги, благодаря именно своим недостаткам, не могли не нравиться. В эпоху, когда они появились, несколько ученых начали, правда, по развалинам восстановлять историю древних времен, но невежественная и праздная толпа еще не находила пищи для своего ума и наполнения досугов и с жадностью накинулась на эту добычу. Кроме того, со времени крестовых походов всеобщая склонность к авантюризму удивительно подготовила почву для рыцарских романов, и особенно сильный и продолжительный успех они имели в Испании, где более, чем где бы то ни было, вкоренился вкус к рыцарской жизни. За восемью веками беспрерывных войн с арабами и маврами последовали открытие и завоевание Нового Света, а затем войны с Италией, Фландрией и Африкой. Что же удивительного, что все пристрастились к рыцарским книгам в стране, где рыцари действительно существовали: Дон-Кихот был не первый безумец этого рода: воображаемый Ламанчский герой имел живых предшественников, образцы с плотью и кровью, телом и душой. Стоит лишь открыть книгу Бернандо дель Пульгар Кастильские знаменитые люди, и мы найдем сочувственное описание пресловутого безумия сына великого судьи астурийского, Дон-Суэро де Кинонес, который, условившись откупиться от чар своей дамы тремя стами сломанных копий, защищал в продолжение целого месяца проход Орбиго, подобно тому, как Родомонт защищал мост Монпелье, Тот же летописец называет множество воинов времен Иоанна II (от 1407 до 1454 г.), лично ему знакомых, как Гонзало де Гусман, Хуан де Мерло, Гутьерре Кехада, Хуан де Поланко, Перо-Васкен де Саиаведра и Диего Варела, которые не только навещали своих соседей, гренадских мавров, но в качестве настоящих странствующих рыцарей объехали чужеземные страны – Францию, Германию и Италию, предлагая всякому желающему сразиться с ними в честь дам.
Чрезмерное пристрастие к рыцарским романам скоро принесло свои плоды. Молодые люди, перестав изучать историю, которая не давала достаточной пищи их извращенной любознательности, начали в речах и поступках подражать своим любимым книгам. Повиновение женским капризам, развратные любовные похождения, ложное понятие о чести, кровавая месть за ничтожнейшие оскорбления, бесшабашная роскошь, презрение ко всякому социальному порядку стали царить повсюду, и таким образом рыцарские книги испортили не только вкус, но и нравы общества.
Эти печальные последствия прежде всего вызвали деятельность со стороны моралистов. Луис Вивес, Алексо Венегас, Диего Грасиан, Мельчор Кано, Фраи Луис де Гранада, Малон де Чаиде, Ариас-Монтано и другие благоразумные или благочестивые писателя подняли крики негодования против зол, вызываемых чтением этих книг. Потом и закон пришел к ним на помощь. Декретом Карла V от 1543 г. отдан был приказ вице-королям и судам Нового Света не позволить ни одному испанцу или индийцу ни печатать, ни продавать, ни читать рыцарских романов. В 1555 году Вальядолидские кортесы в очень энергичной петиции требовали такого же запрещения для Пиринейского полуострова, прося кроме того собрать и сжечь все уже существующие рыцарские книги. Королева Иоанна обещала издать такой закон, но обещания не исполнила[4].
Но ни разглагольствования риторов и моралистов, ни проклятия законодателей не могли остановить заразы. Все эти средства были бессильны против любви к чудесному, которого не могут в нас окончательно осилить ни рассудок, ни наука, ни философия. Рыцарские романы продолжали писаться и читаться. Принцы, гранды и прелаты принимали их посвящение. Святая Тереза, в молодости своей любившая такое чтение, написала до своего Внутреннего замка и других мистических сочинений один рыцарский роман. Карл V тайком поглощал Дон-Белианиса Греческого, чудовищнейшее порождение этой сумасшедшей литературы, издавая в то же время декреты об изгнании её, и когда его сестра, венгерская королева, хотела отпраздновать его возвращение во Фландрию, то ничего лучшего придумать не могла, как устроить на знаменитых празднествах в Бинсе (в 1549 г.) представление в лицах приключений из одной рыцарской книги. Действующих лиц в этом спектакле изображали все придворные сановники и сам суровый Филипп II. Страсть уже проникла даже в монастыри, и там читались и сочинялись романы. Один францисканский монах по имени Фраи Габриэл де-Мата напечатал не в XIII столетии, а в 1589 г. рыцарскую поэму, героем которой был святой Франциск, патрон его ордена, и которая называлась el Caballero Asisio. На заглавном листе нарисован был портрет святого верхом на коне и в полном вооружении, как на рисунках, украшавших Амадисов и Эспландианов. Конь был покрыт попоной и разукрашен великолепными султанами. На кончике каски у всадника поставлен был крест с гвоздями и терновым венком, на щите изображены были пять ран, а на копье – Вера, державшая крест и чашу с надписью: En esta no faltaré. Эта странная книга была посвящена кастильскому коннетаблю.
Вот каково было положение дел, когда Сервантес, заключенный в тюрьме в деревне Ламанча, задумал уничтожить до основания рыцарскую литературу. Этот бедный, безвестный человек без имени и без покровителей вздумал напасть на эту гидру, топтавшую рассудок и законы, в самый разгар её популярности, успехов и торжества. Но он взялся за более действительное орудие, чем доказательства, проповеди и правительственные запрещения, именно за насмешку, и успех получился полный. Моралисты и законодатели, ранее восстававшие против рыцарских книг, могли бы сказать Сервантесу, как говорил Жан Жаку Руссо по поводу матерей-кормилиц Бюффон: «Все мы советовали то же самое, но он один приказал это и заставил послушаться себя». Один вельможа, придворный Филиппа III, Дон-Хуан де-Сильва-и-Толедо из Канада-Гермозы, издал в 1602 г. Хронику принца Дон-Полисисне де-Боэциа, и эта книга, сумасброднейшая изо всех ей подобных, была последним рыцарским романом. появившимся в Испании. Со времени появления Дон-Кихота не только не печаталось вы одного нового романа, во даже старые перестали перепечатываться и с течением времени сделались библиографической редкостью. О многих из них сохранилось одно воспоминание, а большинство исчезло совершенно бесследно. Словом, успех Дон-Кихота в этом отношении был очень велик, и многие даже стали упрекать Сервантеса в том, что он, употребив чересчур сильное средство, вызвал противоположное зло: они утверждали не обинуясь, будто ирония этой сатиры, миновав свою мишень, расшатала почитавшиеся до того правила кастильского понятия о чести.


