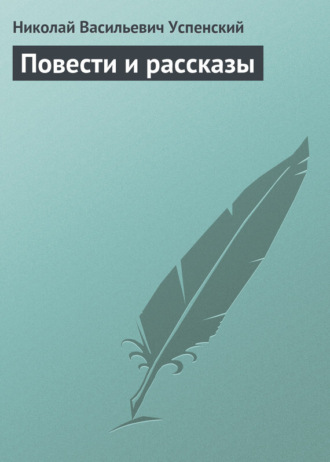 полная версия
полная версияПовести и рассказы
Она:
– Мерси, Потап Егорыч…
– Ну, а если нас захватят? – говорю.
– Нет, эвтому никогда не бывать…
Таким манером проводим время. Особенностей же между нами ровно никаких не было. Путешествовал я к ней не раз и не два. Время, можно сказать, проводил в пустяках; окроме ласк да пересыпки из пустого в порожнее ничего не было.
Осенью, Сидор Семеныч, не помню в какой-то праздник, встретил я ее на углу Подъяческой, шел было к кажуховым лавкам. Увидал ее, остановился. Она чуть не бросилась ко мне на шею. Кричит: «Жисть моя!.. шагай ко мне ноне ночью, сделай такую милость… У нас будут гости, станут гулять до зари до самой. В моей комнате никого не будет».
– Пожалуй, – говорю. – В котором часу?
– В таком-то.
Наступила пора. Являюсь. Комната ее девствителыю пустая, и даже огня нет. Только слышу, в соседней зале идут пляски, крик. А Груша тотчас обращается ко мне и говорит:
– Потап Егорыч, слышите: давайте играть. Я смотрю.
– Да как же? не взошел бы кто. Чего доброго, в шею накладут, недорого возьмут.
– Нет, – шепчет. – Вы разденьтесь, скиньте сюртук, становитесь промеж банками.
– Дальше что же-с?
– Да вы, – говорит, – разденьтесь: Амур и Винера будут представляться.
Мудрит мною, и на! Думал, думал, хочу раздеваться и нет. Что станешь делать? Взял разделся. Стал за цветами. Стою. Вдруг, голубчик мой, растворилась дверь, бежит из соседней комнаты ее брат, за ним целая куча девок. Хохот несется: «Ха-ха-ха…» – девки за ним, он от них, балуются между собою. Я ни жив ни мертв. Как вспомнишь, алии страм, Сидор Семеныч, берет, что эвта Грушка со мной делала… Брат увидал ее и говорит:
– Что ж ты, Грушенька, тут одна? А меня не видно за банками.
– Да так, – говорит, – скучно что-то стало. Мне эвти гости тоску наводят. – И так важно притворилась… «Ну, думаю, вздувать умеет». Брат приласкал ее и повел с собою в залу. Теперича на эвтом еще дело не остановилось. Вскорости я опять-таки забрался к своей любезной. Как услыхал колокол… то-то грех! чем бы бежать в церковь, а я к Грушке. Избаловался ловко. Вся причина, глуп был… можно сказать – сволочь! А всему виною Грушка… она, она вовлекла меня в свои сети, да! Прихожу. Сбросил у крыльца сапоги, и к ней… Пошли цалования, милования. Ее девка тут же. Скалит стоит зубы на нас. Вдруг что же? Слышу, скрыл дверь… я живо в угол к лежанке. Девка ко мне и заслонила меня. Я присел. Входит ее мать. К ней:
– Ты что тут? с кем разговариваешь?
– С Анютой, – говорит.
– А ты что здесь стоишь? (Эвто к девке).
– Да так, – говорит, – постоять вздумалось. А я за ней сижу; держу ее за хвост.
– Ну-ко посторонись…
Анюта посторонилась… как я шаркну! почал стрекать, Сидор Семеныч, как почал… ай-ай-ай… слетел с лестницы, выбежал на улицу в одних чулках. Продрал две улицы без оглядки, прибежал домой – хвать, ни одного чулка нет… все растерял… разожгли!..
Больше туда я ни ногой. Кончен бал. Говорю себе: «Нет, Потап Егорыч, отгулялся, будет! Дождешься, что тебе на спине горбов наделают». Ну, и не ходил. Бросил Грушку совсем. Теперича, Сидор Семеныч, насчет же моих походов к ним, кроме Грушки и девки, так никто и не узнал. Кто таков был, что за персона, но сие время неизвестно.
– Одначе вы, Потап Егорыч, повеселились на своем веку.
– Сидор Семеныч! Где же я повеселился? Ежели бы, к примеру, вы побыли на моем месте, ан не то… ведь сколько одних лихорадок переносил я за эвтими слоиюшками…
– А как же вы женились-то?
– Слушайте-с про сватовство. Вещия любопытная. Тут, глядите, какие зачнут строиться гогули. Грушка здесь пойдет уж гадить: такую скверность учинит! Можно сказать, натянет мне нос вот какой, ахтительный. Раз сижу я в своей лавке, всходит ко мне товарищ.
– Здорово!
– Здорово!
– Не хочешь ли, – говорит, – жениться? девка есть.
– Какая?
– Мурашкина купца, Аграфенка. Две тысячи приданого.
– А не врешь, что две тысячи? – Так точно.
Порассудил я: аи посвататься? две тысячи не маковое зерно. По крайности была не была, – повидался. Пойду. Наряжаться я много не стал; надел бекешку, теплый картуз, – рубль с пятаком дал у Гусевых. Ни в чем словно не бывало, иду. Перва-наперво, как можно чиннее, тихеньким прикинулся. Картуз сейчас скидываю, вступаю в переднюю; в ней никого нет, а стоит на столе умывальник посеребренный, мыло, полотенце тут. Мыло раскрашенное такое, я даже изумился, подумал: «Аль попробовать, что за товар?» Взял в руки, нюхнул, так и хватило амбрем настоящим, издохнуть – не вру!..
– Благородство, должно быть!
– Ка-ак же… то есть человек, Сидор Семеныч, я вам скажу, хоть бы пятьсот душ… да пока до эвтого дела нисколько. Вижу, выходит ихний молодец (заместо лакея он) и хотел было сымать с меня бекешку; я ему докладываю: «Пожалуйте ручку, будьте завсегда знакомы… лапочку сюда… я об вас думаю и полагаю… А что, хозяин дома?»
– Уехачи-с.
Там же в залах шум раздается: «Жених, жених пришел!» Шествуя в покои, сам помышляю: жалко, не надел сюртука-то… развернулся бы! ишь старика нет дома. Помнишь, золы-то напустил бы… Купец, прочим, эвтого не любил. Вот, Сидор Семеныч, навстречь мне, значит, выходит мать с невестой. Невеста Грушка разодета так, – ходи прочь! юбки, с позволения, фу!.. так и трещат. Одно слово, нет барыша, да штука хороша. И не усмехнется на меня, словно первой видит. Поразговорились, сели на диваны, слово за слово… Мать мигом и ответст вует:
– Потап Егорыч!
– Чего изволите-с?
– Дочка моя, – говорит, – всякие танцы и умеет рассматривать… на гуслях… кадрели разные… на портуфьянах, фруктами голову улащает…
Думаю: «Все эвто немудрено, может быть; только что тепереча скажет сама невеста?» Мне хотца проникнуть про приданое. Обманывать наш брат мастер. Невеста здесь подходит ко мне, очи свои воздвигает на потолок и говорит:
– Желаю пондравиться… (кабысь между нами ничего не было).
Я:
– Покорно вас благодарим-с. Желательно, чем вы докажете любовь?
Она:
– Здоровы ли вы?
– Помаленьку.
– Слава богу, лучше всего…
Я:
– Эвто, – говорю, – справедливо.
Ну, тут подали чай; попили чайку, попотели маленько. Я, примерно, избрал времечко, говорю девке, – Грушке:
– Что, между тем, Аграфена Власьевна, позвольте понять: какой вокруг вас интерес есть?
– Найдется, – говорит.
– А как то есть?
– Да найдется. Чего сумлеваетесь? А помните, – говорит, – как вы ко мне ходили?..
– Да-с… именно… помнить кажинную малость помню; касательно же интереса любопытно спросить?..
Она:
– За интересом дело не станет. А вы, Потап Егорыч, сообразите, что предмет главная сила: он прежде всего обращает на себя внимание…
– Точно, – говорю, – предмет многое означает.
Тем делом, Сидор Семеныч, приводят меня в спальнию. Осмотр идет. Спальния богатейшая: подушек до потолка до самого. Говорят мне:
– Эвто наша почивальня, Потап Егорыч.
Я говорю:
– Для отдохновения-с?
– Для отдохновения.
Иду обратно, гляжу, возносят мне на показ салфетки и скатерти. Как подали на руки – подоби вот писчей бумаге, ах ты боже! Я подивился. Дальше, наступила пора обедать. Обед значительный был: ветчина… заливное там… вина разных сортов… и попойка была порядочная. Я пил мало. Но бабы, случились за обедом, качали крепко: под конец стола настегались так, – заду не подымают.
Вот хожу к ним почесть кажинный день. Про приданое пока молчим… Проходит полгода, проходит страшная… четверг, – ничего. В пятницу на святой мы снюхались совсем, порешили. Через никак неделю, что вы думаете? Слышу-послышу, за Аграфенку присватыется офицер. Только узнал об эвтом, тотчас бегу туда, к ним; зло взяло меня.
Вхожу в дом, являюсь в залы, вижу, девствительно стоит офицер, усы расправляет, держится за саблю рукой. Аграфенка сидит на стуле разодетая, разукрашенная: тут ли ты!.. юбки оттопырились на полкомнаты. Говорили ребята, что она к подолу-то пришивала обруч; конечно, подлинно проведать об эвтом женихам нельзя. А в замужестве она нет, обручей не носила. Да и не пригоже; теперича ежели она с обручами взняхоется на кровать, – ведь эвто что выйдет?..
Ну сидит она, сама чванится, знаете; шею вытянула, губы сжала… ни полслова, – великатная такая. Подле нее стоит ее бабка, поправляет на ней ленточки и шепчет ей сплошь: «Не шевелись, мать моя, не шевелись; а то его благородию не понравятся такие дела…» Меня, Сидор Семеныч, рассердило; как? то за того, а то за другого?.. Теперича рассудите по правилу: хорошо она поступила? а? Я вам говорю, одер девка, царство ей небесное… такая продувняга, – поискать на редкость: сейчас в одно тебе ухо влезет, в другое вылезет. А тятенька-то мой был тут в стороне. Нет, чтобы так-то присмотреть за мной: дескать, как сын женится? Просто, Сидор Семеныч, кажинный шаг я должен был сам обдумывать, чтобы впросак не попасть.
Гляжу, мать Грушкина опять зачала расхваливать офицеру свою дочку, как мне прежде, что и танцы и всякие… гримасы ногами выкидывает, и пятое-десятое… Отец тоже себе указывает офицеру на девку, говорит:
– Вот, стало быть, ваше благородие-с, товар лицом: извольте заключить, – говорит, – белизна-с какая… одни ручки – что твоя мука пшеничная; первый сорт… манность!..
И шепчет офицеру, сам ухмыляется… «Как, ежели бог даст, женитесь, ваше благородие-с, таких поросяток препожалует, – любо-дорого смотреть…»
«Ну, думаю, провела… не замай же!..»
А она, Сидор Семеныч, Грушка-то, запрежде как услыхала, что офицер свататься хочет на ней, кричит: «Я благородная… Я благородная», – говорит. Видите? что значит необузданность-то.
– Так как же-с? какая будет крайняя цена?
– Пять тысяч, – говорит. (Куда ляпнул!)
– Нет, таких цен ноне не бывает. Вы посходней просите. А не можно ли, ваше благородие, взять две тысячки?
– Нельзя-с, – говорит, – убыток будет.
– А то по рукам?.. Грушка смотрит на них.
Я не стал слушать их разговоров, взял подсел к ней. Завожу речь такого калиберу:
– Что же, Аграфена Власьевна, вы теперича мне изменяете?
Она ни слова. А бабка подгвазживает ей на ухо: «Не шевелись…» Постой же, думаю себе, ты у меня зашевелишься. Пересел на другое место. В самую эвту минуту, Сидор Семеныч, Аграфенка уронила что-то на пол. Офицер бросился, подхватил и подает ей. Она говорит: «Бонжур[3] за внимание…»
Я сижу. Никто со мной и разговаривать не хочет: притча какая! Встал, нимало не медля, беру картуз и доношу: «Мое почтение-с».
Отец обернулся.
– А! Потап Егорыч… ну, прощайте!
Как мне было тошно, Сидор Семеныч; право… много муки зазнал я с эвтой Грушкой. Пришедши домой, говорю себе: какая она мне будет жена, – верность, ежели и к одному и другому вешается на шею. Пропади ты совсем, Дурища!
Офицер женился на ней, слышите? да и голова же был! вот так искусник: в самую первую же ночь хватились, а его след простыл. Шарили, все углы, трещины высмотрели в дому, нет офицера. А он, говорят, заехал в какой-то трахтир, там богу душу отдал. Болтали, что ему кием голову проломили; одначе кто знает? может, и другое что случилось, только Грушка овдовела. Вот тебе и благородная!
Сказываю своим ребятам: «Как, мол, полагаете? что бы мне сделать с Грушкой? Злыдни такие учинила…» Положим, я не женился на ней, а она за меня не вышла, – все же таки попамятовать ей надобно. Зол был я на нее. Сначала объявил ее девке: «Скажи своей Грушке: как встретится где, так угощу, язык высунет…» По городу, Сидор Семеныч, уже пошли ходить разные разности, всё про Грушку… Слушайте, что дальше. На вешнего Миколу приходит вдруг ко мне ее отец.
– Егорыч!
– Что?
– Так и так… прости меня… я тебя обидел.
– Чем, Влас Гаврилыч?
– Да как же: дал тебе тогда честное слово, а сделал пошлость…
– Ну, эвтого не воротишь, – говорю.
– Нет, – говорит, – оно можно воротить.
– Как?
– А вот как: я офицеру-то покойнику дал две тысячи, а тебе, ежели хочешь, дам три.
«Ишь как, думаю, куда полезло!»
– Вот что, – говорю, – Влас Гаврилыч: деньги ничего, их можно, пожалуй… я не прочь. Одна статья меня в сумленье приводит.
– Какая?..
– Боязно мне… то есть касательно Аграфены Власьевны: ведь она, будь меж нами сказано, уж женщина. Следовательно, цена теперича ей не та.
– Вот тебе, провались я на сем месте, – говорит, – девка неповинна. Слышь, офицер после ужина удрал…
– Так ли?
– Лопни мои глаза.
– А ежели нет, тогда что?»
– Будь я анафема, коли лгу. Будь друг, избавь девку. По городу такие шкандалы ходят – смерть!..
– Изволь, изволь. Но чтобы, смотри, – говорю, – насчет того…
– Я тебе сказываю, убей меня бог, ежели…
– Ладно.
Сладились. Через месяц, Сидор Семеныч, мы обвенчались. Но дивитесь теперича, как, значит, наш брат купец, как он обдувать-то ловок. Вместо всего, что мне сулили… обманули меня во всех частях… какова скверность…
1858Змей
В ветхой избенке, стоявшей на краю одного уездного города, в ненастный осенний вечер, при свете ночника, сидели за ужином два молодых парня. Они только что пришли с бочарной работы и, как видно, сильно проголодались, потому что ели с большим усердием, хотя ужин их состоял из одной тюри, которую приготовляла грязная баба, сидевшая в углу избы с поникшей головою. Один из работников был худ, бледен, однакож не угрюм, и имел на вид не больше восемнадцати лет; другой несколько постарше, с открытым, полным лицом и слегка смеющимися глазами. Они рассказывали друг другу, сколько выручили за день капиталу, в какие заходили дома, какую сбивали посуду и проч.
Между тем под окном шумел проливной дождь, в трубе завывал и посвистывал ветер, на всю избу звенели дрожавшие стекла. Работники порою замолкали и прислушивались к дождю.
– Как хлещет! – говорил один из них.
– Да, малый, – задумчиво отвечал другой.
Затем снова начинались разговоры. А сидевшая в углу баба продолжала дремать, покачиваясь взад и вперед.
– Тетка Арина! – обращаясь к бабе, проговорил старший малый, – не знаешь, хозяин дома?
– Чего?
– Хозяин дома?
Баба зевнула, потянулась и пробормотала:
– Господи Иисусе Христе… не знаю… Кажись, ушел куда-то. А-а-а… – опять зазевала она и почесала у себя правый висок, запустив пальцы под головную тряпицу.
– А что, тетка Арина, нет ли у тебя другого какого хлёбова? тюрю-то, слышь, ели, ели, ажно вспотели.
– Какого там тебе хлёбова! Ишь что выдумал: дай ему хлёбова… Где я возьму?
– Ну, так нечего, верно, попусту сидеть. Ступай, собирай со стола.
Работники вышли из-за стола, помолились образам и поблагодарили за хлеб за соль бабу, которая, поправляя на своем затылке съехавшую повязку, медленно подошла к столу, позевала немножко и начала сбирать посуду.
– Тетка Арина! ты бы нам когда-нибудь теста наварила, – сказал старший малый, стоя позади бабы и застегивая ворот своей рубашки.
– Чуден ты, Иван, право слово. Ты какой-то неразумный: теста, вишь, ему навари. Хозяйка я, что ли? Кабы я хозяйка была? их! я сама жру не лучше вашего: часом с квасом, порой с водой.
Иван проворно повернулся и пошел к печи, чуть-чуть напевая, как бы про себя: «Тетушка Арина, ты б нам тестица сварила».
– Семен! пойдем на печь, – сказал он товарищу, – ноне я тебе расскажу сказку, волос дыбом станет; такая занятная, пропади она. Давеча, братец ты мой, иду по Воронежской улице и кричу: «Обручи набив-а-а-ать». А сам думаю: «Эх, забыл сказать Сеньке одну сказку; беспременно, мол, вечером скажу».
– Ну, рассказывай, рассказывай, – проговорил Семен, почесывая обеими руками свой живот, – да смотри, хорошенько.
– Уж отзвоню такую лихорадку – любо! Полезай на печку.
– Погоди маленько, дай напиться, сейчас…
В углу избы зазвенел жестяной ковшик. Через минуту работники забрались на печку и приготовлялись к рассказам.
Работница вытерла мочалкой стол, поправила ночник, перекрестила свой рот и отправилась к загнети.
– Ребята, тушить ночник-от? – сказала она разуваясь.
– Погоди, может хозяин призойдет.
– Не замай же его, погорит. А-а-а-а-их-ну! Господи отец небесный… Христос милосливый…
– Ну вот, это мне рассказывал верный человек. У некого купца была дочка, самая что ни на есть красавица и любимая его. Звали Машенькой. Такая распрекрасная красота, что все купчики стадами бегали… Случились ее именины. Отец, пришедши от обедни, зачал ее поздравлять со днем ангела: «дескать, честь имею поздравить тебя, дочка милая». – «Благодарим покорно, папенька». Потом отец пошел в другую комнату и вдруг выносит на серебряном блюде кольцо золотое.
– Погоди, да я эту историю знаю, – прервал Семен.
– Как знаешь?
– Именинница получит кольцо и ненароком подавится им, так?
– От кого ты слышал?
– Не помню. А дальше там ее схоронят и за кольцом полезут к ней ночью воры, то есть в могилу. Вытащат из горла кольцо, она и воскреснет.
– Так, так. Ну, коли эту знаешь, надо другую говорить.
В это время в избу вошел с черной бородой, в длинной чуйке, хозяин. Он двумя пальцами сучил край своей бороды и глядел на печь, прислушиваясь к разговору работников. Но работники скоро замолчали.
– Что, ребята, вы не спите?
Иван бросился было слезать с печи.
– Лежи, лежи; я так пришел. Ну, как вы ноне день поработали, хорошо?
– Не совсем хорошо, Григорий Петрович. Я-то сорок копеек принес, а вон Семен тридцати не выработал.
– Да, плоховато. Выше бога не будешь.
– Прикажете теперь деньги отдавать?
– Нет, завтра отдашь, лежи себе. Я так, на минутку зашел. Плоховато, плоховато! А я ходил к Еремею Иванычу; жена у сердечного померла.
– Померла? – спросил Иван.
– Померла.
Не переставая сучить пальцами бороды, хозяин задумчиво пошел вон из избы; на пути ногою подсунул под лавку ведро с помоями и скрылся за дверью.
– Ребята! – вдруг спросонья забормотала баба, – кто это приходил? Ребята!
– Воры, тетка, воры!.. ха-ха-ха-ха.
– Провалиться вам, жеребцы стоялые, – с сердцем сказала баба и завернула голову в дырявый армяк, из-под которого слышалось: «Чего хохочут? Насмешники, прости меня господи…»
Впрочем, двух минут не прошло, как она успела уже захрапеть на всю избу.
– Что бы тебе рассказать? – начал Иван, почесывая макушку.
– Про мертвецов знаешь? Вот расскажи.
– А ты веришь в мертвецов?
– А ты?
– Я не верю, – сказал Иван.
– А я верю.
– Ну, напрасно. Да ты размысли, разве может мертвец вставать?
– Может завсегда. У нас в слободе каждую осень мертвецы бродили, потому отчего же им не бродить?
– Глупо, братец мой, ты рассуждаешь.
– А в писании сказано, говорят: мертвые восстают из гробов, – так ты должен поверить.
– Знамо, должен. Я должен поверить, ежели в писании сказано. Только про мертвецов рассказывать тебе не стану. Потому я про них ничего не знаю. Но вот… Сенька… погоди, брат.
– Что?
– Вспомнил. Сейчас расскажу. Такая история…
– Про мертвецов?
– Нет, про змея.
– Хороша?
– Эту, брат, только слушай; смотри не засни. Дли-и-инная… пойдет за полночь.
– Правда это?
– Истинная правда, вот увидишь.
По обычаю всех рассказчиков, приготовляющихся угостить слушателя занимательной историей, Иван несколько раз кашлянул, плюнул, немного помолчал и начал:
– Слушай. В нашем селе некогда жил молодой огородник, по имени Антошка, человек безобразный собою и высоченного роста. Рост у него был так велик, что когда Антошка стоял на пустыре у нашей версты, то издали казалось, будто два столба торчали, ровные между собою. Одной слеги недоставало на верх, чтобы вышли качели. Такой удивительный рост. Ходил он всегда почесть в соломенной шляпе, с палкой или балалайкой в руке. При нем еще находилась белая собака, «Секрет» прозывалась. Мужики ее звали курятницей, ибо она кур ела. Этот Антошка, слышишь ты, был человек необнаковенный. Он имел у реки, на своем огороде, избушку и жил один; занимался такими делами: шил сапоги, вязал сети, строил клетки с западнями и обучал всякую скотину разным артикулам. Что то есть ему ни попадись – кошка ли, дятел ли, свинья ли… нет бишь, свиней он ничему не учил, так как свинья глупа. Но примерно вот цапля; эту он обучал. Одна у него, помню, под дудочку плясала на Фоминой недели. Кроме того, Антошка был отчаянный бабник… Что, спит Арина-то? – вдруг спросил рассказчик, подняв голову.
– Спит, спит, – рассказывай.
– Так, понимаешь? Главное, умел подделаться под баб: прибауток знал гибель. Любил он припевать такое стихотворение: «Как под мельницей, под вертельницей, там и старчики (нищие) дерутся, только сумочки трясутся». Во время пения строчит на балалайке и ногами маленько семенит.
Я его знал вот словно тебя и ходил к нему частенько за подсолнухами, за огурцами, а то просто какую-нибудь книжку спросить. У него были «Сухарева башня», «Змей Горыныч», «Правда о мужчине и женщине». Еще, как ее… от запоя что-то… кажется, «Польза от пьянства».
Прежде всего я тебе буду говорить, каков у него дом. Сейчас ты входишь в избу (изба чистая и светлая), видишь: в углу направо разбросаны сапожные струменты, на стене картины наклеены, и висит под шляпою балалайка. По полу ходит аглицкий петух и куцая галка бегает; галка у него предназначена для прусаков, имя ей Матренка. Перед окнами висят две клетки с синицами; по жердям порхает чиж. На лавке под образами привязана к гвоздю крыса, а под столом лежат две собаки: одна белая – курятница-то, другая – щенок, Кубариком прозывалася.
– Зачем же у него крыса?
– А все же для выучки служился. Он, видишь ты, крысу учил на задние лапы становиться, держать трость через плечо и плясать. Да у Антошки не токмо крыса, даже мерин был ученый, лошадь лет пяти, рыжей шерсти: он умел носить в зубах плетушки, ведра с водою, воровать корм. Воровать выучил его Антошка таким образом. В сумерках водил его в чужие скирды и приставлял прямо мордой к сену, а сам из-за валу выбегал и пугал его; да так настроил животину, что она чуть заслышит шорох, так и пустится бежать, только копыта засверкают. Мужики сколько раз дорывались поймать его, – нет, погоди: лошадь не та, чтобы далась тебе. Этот мерин вот какого разума достиг, что знал, каким манером обойтись с мужиком и бабой, в случае, ежели нападут на него: от бабы он никогда не бегал, а заложит уши назад и напустится на нее; баба закричит благим матом, не знает, сердечная, куда деваться. Но от мужика мерин бегал без всяких то есть отговорок; потому смыслит, что мужик – не баба: пожалуй, по ребрам съездит. Одно слово, лошадь четыре целковых стоила прежде, а после выучки сделалась без цены. В наше село приезжал один казак, – так он заподлинно сказал, что этаких мереньев на Дону мало. А ведь на вид, братец мой, войлок просто: пять лет от роду, шея длинная, вся в орепьях, да еще выдерганный хвост; ноги косматые. Опричи всех этих забав, у Антошки находились на чердаке голуби турманы; штук до двадцати было. Как он за ними ухаживал! бывало, схватит помело, встряхнет волосами и начнет пугать, сам присвистывает: фю, фю, фю… Иногда зарядит, с утра до ночи охотится. Ежели же нечаянно налетит на стадо ястреб, то Антошка сам не свой бывает: и помелом тычет вверх, и кричит, и бегает – весь народ взбаламутит. Однова он в одной рубахе гнался за ястребом верст пять по деревням. Народ в изумление пришел, глядя на него; руками махает, горланит изо всех сил. А то как-то улетела у него молодая голубка; Антошка живо схватил себе в подол кормочку овсеца и поскакал за голубкой. Она пролетела версты три, в селе Пестрове села на дом благочинного. Антошка второпях стал прямехонько перед окнами и принялся шептать: «Ксь, ксь, ксь…» Сам одной рукой держится за подол рубахи, а другой выхватывает оттуда овес, рассыпает его по земле и не замечает, что у окна сидит благочинного дочь, орехи щелкает. Право! голова был этот Антошка.
Расскажу тебе, как он жил дома, как обращался с своими птицами и собаками. Собирается, например, он обедать. Ну, вестимо, сам накрывает на стол, режет хлеб, выставляет из печи горшки. Вся скотина, которая у него в хате, собирается к столу. Антошка садится среди ее, берет в подол к себе щенка и сидит, словно отец в семействе, и со всеми разговаривает. А синицы и чиж в это время заливаются песнями. Чиж летал повсюду: то на вербы порхнет, то на блюдо сядет. Подле хозяина на лавке стоял обнаковенно петух. Он все присматривался к щенку: чуть щенок зашевелится в коленах, тотчас он его в голову стук, стук и пойдет долбить. Тогда Антошка говорил: «Смотри, смотри, Петька, – я те клевну!.. Глупец».
У нас на селе у парня Илюшки были тоже аглицкие петухи, так Антошка часто говаривал своему за обедом:
– Ты у меня, Петр Петрович, ныне скочетаешься с Плюшкиным петухом: если выручишь, я тебя тогда этак по головке поглажу… да ты не дерись… я тебе черто-плешину закачу; хозяин говорит, а ты должен слушать. Потом, когда видел, что галка, назобавшись, скакала по избе, обращался к ней:









