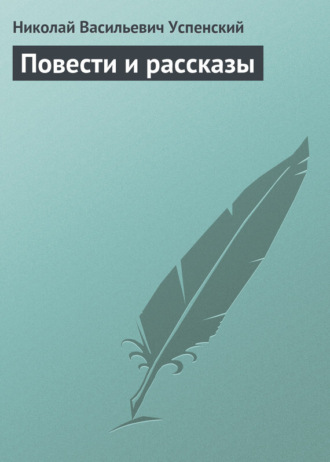 полная версия
полная версияПовести и рассказы
– Бедовые!.. тут держи ухо востро да востро: с ног смотают, – женское дело…
– Именно с ног смотают, мать ты моя родная…
– Ты бы жаловаться скорее… чего ж смотреть?
– Вот-с извольте дослушивать, Федосья Николавна. Я, конечно-с, намеревалась жаловаться. Ведь вы сами посудите: мое дело вдовье, – кто мне что припасет?.. Следственно, сами рассудите, по-божьему… Приходит Агапушка с ведерками. Я ему сказываю: «Как нам, Агапушка, быть? – рассказываю ему все, – примета, дескать, такая-то, в синей поддевке…» Только что вы думаете? А Агап его знает… «Эвто, говорит, Анисья Тихоновна, прощалыга надменный, ибо всем известный; я его и дом знаю». Как раз, значит, уложил ведерки, перепоясался и пошел к нему на дом. «Одначе вряд ли мы, Анисья Тихоновна, разыщем», – объяснял он мне таким манером. «Почему?..» – «Так как он есть вор, по этой причине вора изловить трудно». – Но я доказала ему: «Ты хоть посмотри сходи, поросенок с приметой: правое ушко сечено и хвостик в дегтю…» Затем Агап приходит туда, всходит в горницу, сидит хозяйка, что-то работает; а поросеночек по полу ходит… Слышите? дай бог исчезнуть, не лгу… ходит, вот как есть ходит, похрюкивает себе полегонечку… Примерно, Агап ведет такие речи с хозяйкой:
– Здравствуйте, матушка. Где ваш супруг?..
– Тебе на что?
– Да дельце есть.
– Мой супруг на торгу…
– На торгу… А я у вас поросенка возьму. Почему возьму?.. потому что он наш собственный…
– Не смеешь брать, его мой супруг купил.
– Нет, не супруг; а в спасов день его нам законная свинья пожаловала. Следственно, я должен взять.
– Ступай вон, – говорит, – мужик. Ты, – говорит, – сам свинья, рыло нечесаное.
Агап приходит и докладывает: не дает поросенка. Вот тут, Федосья Николавна, я встала и говорю: «Агапушка! покарауль, голубчик, поросят, видно, сидемши-то, ничего не высидишь; что будет, то будет, иду к купеческому голове». А сейчас помереть, ни за тысячи рублев не пошла бы жалиться, если бы голова не был мне знаком; то есть я, сударыня ты моя, теперича порешусь на какое другое дело, опричи жалобы. Истинно справедливо говорю. Всегда дрожмя-дрожу, как злодейка какая, ежели придется что касательно начальства. Такой характер. – У Агапа же я не забыла спросить дом того человека… недалеко от площади он… такой низенький…
А купеческий голова знаком мне по тому случаю, что я брала у них в лавке, что требовалось; покупала, значит, харчи всякие, ни у кого больше, только у них. Прихожу. Он собирается куда-то идти и встретил меня уже на лесенке.
– Здравствуй, Анисья Тихоновна, – говорит он мне.
– Здравствуйте, батюшка Прохор Антипыч.
– Что ты?..
– Заступись, отец родной: поросенка украли.
– У тебя украли?
– У меня, Прохор Антипыч.
– Как так?
– Сижу я на торгу с плетушкой; подходит человек. «Почем поросята?»… – и все подробно описала.
– Давно? – спрашивает он меня.
– Недавно-с…
– А как недавно?..
– Не могу вам подлинно рассудить, только оченно недавно.
– Посиди, – говорит, – здесь. Я собрался по одному делу к его высокородию тутошнему городничему, потолковать с ним о важной материи, так намекну ему и про твою покражу. Поди сядь, – говорит. Я вошла в лавку и присела там. Городничий же как есть, мать моя, жил насупротив Головина дома – рукой подать… Пошел он, а у меня сердце так и замерло… Ну, да потребуют к городничему?.. что я могу сказать ему с своим бабьим толком?.. трясусь, точно самодерга какая. Глядь, вижу, Федосья Николавна, действительно входит в лавку солдат, возглашает:
– Кто здесь женщина?..
– Я, милый человек.
– Вы просительница? – Я просительница.
– Пожалуйте к городничему.
– Ну! иду, голубушка ты моя, иду… ногами совсем не обладаю… ступить не могу… Дорогой служивый меня спрашивает:
– Относительно поросенка дело затеваете?
– Относительно поросенка-с… После этого я ему:
– Научи ты меня, господин служивенький, как, примерно, объясняются супротив городничего? как его величают?
Он сказал:
– Говори: ваше высокородие, да смотри в ноги не забудь шаркнуть.
Всхожу в палаты, стою у двери, жду, а сама, родная ты моя, перед господом богом щепчу про себя: «Помяни, мол, царя Давыда и его кротость; помяни царя Давыда и его кротость…» Вдруг из дальних покоев грядет он ко мне в шелковом, матерчатом таком балахоне, с трубкой; эвтак из-за пазушки крестик виднеется. А за ним, мать моя, голова, почтительно сложимши руки за спину. Подходит.
– Ты просительница?
– Я, ваше высокородие… Сама в ноги.
– Встань, – говорит. Я встала.
– У тебя поросенка украли? – Каким манером?..
– Так и так, ваше высокородие… сижу с плетушкой на хлебной площади, жду покупателей, – и все расписала… а у самой в глазах такие нешто огоньки, беда-с… Что с моей натурой делать, Федосья Николавна? Намесь, ей-же-ей не лгу, старшины в церкви испугалась: «Передай, говорит, свечку Смоленской», – и толкает меня; всполошилась ужасть как… Даже он заприметил; опосле выговаривает: «Чего ты, говорит, взбеленилась, дурища этакая!»
Дальше-с, городничий, выслушавши меня, подумал и пошел в комнаты. Я стою у двери. Выносит мне, государыня моя, купеческий голова писулечку и гласит: «Ступай к хвартальному во вторую часть на Пощечинскую улицу». Потом сам городничий кричит мне: «Сходи, тетенька, с моим солдатом, он тебе укажет дом». Я и побрела. Солдат со мной. Идем да поговариваем, беседуем, дорогой-то. Разговорились. Слово за слово, мать моя, он и держит такие словеса: «Не тужи, сердечная! поросенок теперича отыщется, ежели милость твоя будет пожаловать мне на полштоф…» Конечно-с, совестно было отказать. Деньги я, Федосья Николавна, завсегда при себе находила; ибо, знаете, дело мое вдовье, неравен всякий случай может случиться… дала ему. Он то есть зашел, выпил; скоро управился. В это самое время зазвонили к вечерне. Дом у хвартального такой особенный, деревянный; отдельно стоит на пустыре; на воротах лежат хищные звери, зеленой краской выкрашенные. Недалече будка-с. Ну-с, вот мы входим в хоромы самые. У двери стоит солдат, вычищает платье. Он обращается к нам:
– Что вам угодно?
– Доложите, – говорю, – вашему барину, – и подаю записку.
– Касательно чего потребствие имеете?
– Касательно поросенка-с… так и так.
Он пошел и доложил про нас. Квартальный выходит с стаканом чаю в руке и с моей записочкой. Читает. Прочитал и говорит:
– Ты просительница?
– Я-с, ваше высокоблагородие.
– У тебя поросенка украли?
– У меня-с.
– Что же, ты хочешь найти его?.. Поди-ко сюда в комнатку, потолкуем о твоем деле.
Поставил стакан на прилавочек в прихожей и ведет, голубушка ты моя, меня в махонькую каморочку, тут и есть направо. Запер за мною дверку и вопиет:
– Ты как смеешь беспокоить городничего? а?
Я так с испуга и раскисла. В глазах, верите богу, вот как замутошилось, что квартального из виду потеряла.
– Да говори: почему ты беспокоила городничего? почему не обратилась ко мне?
– Ваше высокоблагородие, – говорю, – я и не ведала даже, где городничий жительствует, и не думала к нему ходить. Первоначально я осмелилась утруждать купеческого голову.
И слышать не хочет; шумит:
– В часть тебя, дрянь такую… в часть запру… эй! солдаты!..
– Батюшка! помилосердствуйте… что хотите с меня извольте взять, только избавьте муки… все возьмите…
– Да что с тебя взять-то, с пасквили?
– Вот целковый…
Он протянул руку… и отворил дверь.
– Смотри, – говорит, – ежели ты теперича когда вторично будешь жаловаться городничему, я с тобой не расстанусь так.
– Не буду, – говорю, – никогда… Слава богу, отлегло от сердца.
– Как же, – спрашиваю, – ваше высокоблагородие, относительно поросенка, прикажете уйти мне?..
– Сейчас, – говорит, – со мной пойдешь вместе.
Ну, думаю, Федосья Николавна, не чаяла вживе остаться… такой характер заноза у меня…
– А знаешь, – спрашивает он, – дом того человека, что унес у тебя поросенка?
– Знаю-с. Недалече от площади.
В скором времени мы пошли с хвартальным; вдобавок с нами два солдата идут. Только что мы, сударыня моя, приходим к тому домику, крохотный такой, и идем прямо в покои; хвартальный упереди. Видим: на лавочке сидит женщина, вяжет чулок; вокруг ее никого нет. Сейчас хвартальный вскинул взорами и спрашивает:
– Где твой муж?
Она поднялась, обдернула фартук и гласит:
– Мой муж на работе-с.
– На какой работе?
– Канаты сучит.
– В котором месте?
Она маленько подумала и доложила:
– В Грязной улице, у своего хозяина.
– Ты врешь? – сказал квартальный.
– Никак нет-с. С мальства не училась эвтому делу, чтобы врать…
Хвартальный обернулся и повелел солдату сходить в Грязную улицу и разведать все. Мы стоим, ожидаем. Хвартальный сел, закурил пипочку такую, а сам ни слова. Солдат приходит уж долго годя.
– Что?..
– Да что, хозяин говорит, у меня его нет. Я не знаю, что за человек такой есть.
Хвартальный как разозлится, милая ты моя, только нешто зубами поскрыпел.
– Я тебя попотчую, – говорит он ей на прощанье, как совсем выходил.
Вся причина, поросенка не отыщем никак.
– За мной идите, – говорит хвартальный.
Мы пошли. А уж, Федосья Николавна, становилось поздно. Куда ведет, в толк никак не возьму. Сердце у меня не на месте. Думаю: «Как Агап на площади? чего доброго, не растаскали бы последних…» Вот-с идем из одной улицы в другую, как повернем за угол, так хвартальный обращается:
– За мной идите. – И все дальше да дальше.
Очутились мы перед чистеньким домиком. Хвартальный остановился у калиточки и начал дергать за веревку… зазвенел колокольчик… Калиточка отворилась, и показался кто-то с надворья. Он спросил: «Дома?» – и ушел туда. Слышите? Ждем, сударыня ты моя, после этого; проходит с час времени, ничего нет, проходит другой, мы разговариваем: «Что, мол, такое значит?»
Солдаты мне объясняют:
– Он еще долго не воротится. Ежели уж засиделся на месте, то скончания не будет сиденью…
– Как же, служивенькие, так?
– Да так. Не будет ли вашей милости пожаловать нам на полштоф, а то нам пора отправляться…
– А я-то, господа квалеры, с кем останусь? Теперича я и дороги не найду.
– А с нами же, – говорят, – и останешься, ежели пожертвуешь опохмелиться… Мы даже проводим вас после таких делов…
Размышляю в своем разуме: «Надо дать!.. что, как взаправду они уйдут?..» Дала. Вторая причина, отказать не приходится, взяла и дала. Недалече, сударыня моя, тут был кабачок… Я осталась у калитки, стою. Солдаты вышли скоро. Глядим, выходит с надворья хвартальный, смотрю – за ним другой, тоже хвартальный, стало двое их. Теперь, Федосья Николавна, милая ты моя, тот, что с нами был прежде, сделался хмелен, а другой нет: не совсем чтобы хмелен. Хмельной идет да покачивается и называет другого своим приятелем. Другой отвечает только: «Спасибо», – говорит… Захмелявший шумит: «За нами идите!» – и все шатается… А тот глаголет ему. «Нехорошо, говорит, не качайся!..» Таким манером, сударыня моя, мы идем. Солдаты ведут речи промеж себя, что хмельной хвартальный, когда тверезов, дока бывает… на все дела мастер… Только что как выпьет, нехорош делается… Приходим, мать моя, к прежнему дому, где вор-то жительствовал; всходим. Опять его хозяйка сидит, чулок вяжет. Сию минуту тверезой хвартальный обращается не к ней, а ко мне:
– У тебя поросенка украли?..
– У меня, ваше высокоблагородие.
– Кто, – говорит, – видел твоего поросенка в эвтом самом доме?..
– Мой Агапушка, – говорю…
– Позвать!..
Я как раз отправляюсь с одним солдатом за Агапом на площадь и больно уж рада, что по крайности узнаю, как он там, сердечный, справляется? Дорогой, Федосья Николавна, – что вы станете делать? – солдат опять просит опохмелиться. Ну, уж тут я ему прямо сказала: «Ты, мол, голубчик служивенький, посмотри, сколько у меня деньжонок осталось? на, пожалуйста, посмотри: всего, вишь, навсего три четвертака». Он отвечает: «Ну не надо!.. главное дело, говорит, я так спрашиваю: дескать, нет ли опохмелиться?» Ну приходим мы на площадь; стало темненько; вижу – вдалеке сидит, Агапушка, ждет… никого нет на площади. Подхожу, смотрю, поросят всех раскупили… ну, слава богу!.. «Пойдем, говорю, Агапушка, к хвартальному»; сели на телегу и подъехали к тому дому.
Спрашивает хвартальный Агапа:
– Ты тут видел поросенка?
– Тут-с, как же не тут, когда наш поросенок меченый, хвостик в дегтю и прочее…
Потом говорит хвартальный супротив хозяйки:
– Ты что ж говоришь, анафема, что у тебя не было поросенка?
А хмельной хвартальный себе:
– Ты что ж, анафема, разговариваешь, будто у тебя нет поросенка?.. В часть ее! эй!..
Но тверезой отвечает ему: «Не кричи, говорит, нехорошо!..»
Хозяйка же только твердит: «Знать не знаю, что есть за поросенок такой на свете». Бились, бились! вдруг хмельной хвартальный подходит ко мне и спрашивает:
– Да ты что ж, говорит, дурища, молчишь? а? Я за тебя стараюсь, шумлю здесь от души сердца, а ты не разговариваешь?..
А тверезой на Агапа:
– Ты врешь, дурья порода! ты здесь и не был.
– Как не был?..
– Я тебе говорю, что ты не был… ты послушай меня, что я говорю: ты не был!..
– Нет, я был…
– Врешь!..
Да как пошли, как пошли… батюшки!..
– В полицию вас всех, – кричат.
А хмельной хвартальный объясняет мне:
– За водкой надо посылать!.. Ты у меня не размышляй, а дело делай. Я тебе сказываю так точно… чтоб в акурате водка явилась…
Только после таких разговоров, голубушка моя, окончилось тем, что поросенка так-таки не разыскали (вор – бедовый). Хвартальные же между тем сказали друг другу:
– Пойдем в трахтир, их сам шут не разберет!.. И пошли. Мы постояли маленько и себе пошли. Жалко поросеночка-то… право слово… как налитой, господь с ним!.. сама три недели кормила…
1858Хорошее житье
Целовальник с подстриженной бородкой, одетый в синюю суконную чуйку, распахнувшись и упершись левой рукой в свое колено, сидел за столом против своего приятеля, низенького мещанина, который пристально смотрел ему в лицо и курил трубку. Дело происходило за двумя бутылками пива.
– Да, братец ты мой, такой жисти, кажись, не будет супротив той, как я служил целовальником в Покровском… Нет!..
– Ты ведь перва был приказчиком у какого-то купца?
– Как же, как же… три года выслужил в Ливнах.
– Ну, а как торгашом-то сделался?
– Попросту: стало быть, сказать тебе по секрету, у хозяина поддели на Егорьев день пудов шесть сахару, чистого рефинаду.
– Вот как! и сделался торгашом?
– И сделался торгашом. Да что! должность самая пустая эта, Иван Иваныч. И какой случай, сударь мой: прихожу опосле к одному купцу пайматься, в сидельцы, – «нет, говорит, мне таких не надо». А хозяин, тресни его бока, все расписал про меня; вся причина, толстобрюхой вникнуть не мог, как было дело: воровал-то не я, значит, а товарищи; я только принимал. Прихожу к другому, тот говорит: «Не надо!» Бился, бился, так приписался в торгаши. Что сделаешь! Близко локоть, да не укусишь.
– Эвто точно…
– Бывало, едешь, едешь с горшками али с дегтем, смехота, ей-богу!.. орешь, хочь бы те на грош кто купил. К примеру, в рабочую пору: в целом селе ни души. Горланишь: «Соли, дегтю, табаку, мол, лежит баба на боку». Хоть что хочешь делан! ей-же-ей… индо горло распухнет кричамши. На твое зеванье только собаки вякают.
– А никак, Андрей Фадеич, тут прибаутки какие-то читают! Мне их не приходилось знавать.
– Есть и прибаутки, там: «Ей тетки, молодки – охотницы до водки, старые старухи – охотницы до сивухи…» Мало ли! Да все пустое, Иван Иваныч. Я б, кажется, теперича не взял тысячи рублев ездить опять по деревням да распевать эти прибаутки. Вот целовальничья жизнь! аи лгали!.. надо прямо говорить.
– За что тебя сменили?
– Вспоминать не хотца! (целовальник шепчет на ухо мещанину): то есть в моем кабаке убийство приключилось… ну и…
– М-м…
– Да я не роблю; разве я роблю? У меня опять будет место, целовальничье же, и скорехонько.
– В Запиваловке?
– В Запиваловке. Говорят, кабак не плоше нашего Покровского… пьяниц довольное множество.
– А видно, хорош был кабак в Покровском? Расскажи-ка мне что-нибудь про него.
– Одолжи-ко мне своей трубочки… что-то в горле першит. Год назад я хам сидел. Слободка порядочная; народ все однодворцы, такие забубённые головы… люди важные! Вся причина, Покровский народ пить здоров. – Уж как пойдет пьянствовать – держись шапка. Оттыкай бочки!.. жену пропить готов совсем с утварью. И житье, Иван Иваныч, было расчудесно: благоприятели, мужики-то… Вот сказывают целовальники, что на больших дорогах, говорят, на хлеб не добудешь… а тут знай разевай пошире рот… Оно хоть и сменили меня, не замай! лучше авось не сыщут. Ноне кто живет по чести? бают: «Своя рубашка к телу ближе». Так ли?
– Подлинно, Андрей Фадеич.
– Как же можно? Да ты, братец мой, рассуди: теперича идет мужик в кабак, несет он, положим, полушубок али везет телегу, телега новая, колеса шинованные, недавно обтянул, просит: «Дай ведерку!..» Ну с чего же не дать? и-их! По мне, вещия ли хорошая, деньги ли, статья одна: что в лоб, что по лбу, все едино! Перва-наперво я, как только поступил в кабак, тоже почеремонился, не хотел брать… Приводит мужик теленка, – говорю: «Ты отвяжись от меня лучше… здесь кабак, не скотный двор». Он вдруг на меня: «Да ты что ж куражишься? первый ты у нас, что ли? законодатель, вишь, пришел; до тебя небойсь жил целовальник, не токмо телят, лошадей принимал». Точно, принимал лошадей. Думаю: «Что же?..» – и пошел с того времени, да как пошел… хе, хе, хе… благодарствуют мужики… кланяются, кричат: «Отец!», – примутся иную пору обнимать, ей-богу! «Вот так боготворитель, вот защититель! отцов таких мало…» Смотрю на них, смеюсь…
Сидишь иногда эвтак, помышляешь: что значит поставить кабачок-то родной в селе, что твой улей с медком; ишь льнут!.. со всех сторон; отбою нет… завсягды народу злей, чем па ярмарке. Поди же в поле, на большой дороге… разя уж стыдь загонит какого проезжего, и тот – выпил шкалку, косушку много, закусил крендельком и марш вон: ты жди.
И такое диво, Иван Иваныч: наш священник раз до трех пытался снесть кабак в сторону, подальше от села: говорит, на церковной земле стоит, помнишь, истребить задумал пьянство и подавал куда-то прошение – нет! о сю пору стоит себе, дескать, мне и тут хорошо… Как следует быть, приезжали судьи, мерили землю (в акурате у меня попили). Говорят священнику, Лександром его звали, Погожев прозывался: «Дело твое, бачка, маленько с хвостиком; кабак на пол-аршина стоит от церковной земли; законное он место занимает». Бачка и остался, кабысь несолоно хлебал. Опосле почал в церкви гласить проповеди, увещает мужиков: «Что вам, православные, кабак-то, сласть какая, что ли?» Мужики слушают…
Вспомнил я про одного мужичонка, пьяница был, оторви голова! и плутина… бесперечь сидит на своем крыльце, выжидает: как бы где ломануть?.. с кабака глаз не сводит. Кабак же, надобно тебе сказать, стоял на самом на юру, ровно среди улицы. В тихую погоду я возьму нарочно выдвину из сеней бочки, что были с вином, всполосну их, да с боку на бок переворачиваю, и-и-и запах идет… а мужик сидит…
Однова в воскресенье заблаговестили к обедни, тронулся народ, эвтот мужик тоже: честь честью вышел из двора, снял шляпу, перекрестился и бредет, словно к обедни. Отошел чудок, да как вдарится к кабаку и прилетел, говорит: «Давай скорей!» – вынимает подпояску. Смотрю, дверь отворилась, бежит его жена, цап его за виски, кричит: «Вор, мошенник, куда те родимец занес?». Схватила его, давай куделить… Сама ведет вон. Меня смех так и разбирает. Что же? убежал-таки. Ну мы с мим тут посмеялись порядком; говорит: «Баба дура, нешто она понимает!..»
Главная вещь, доложу тебе, кабачок был самою что ни на есть благостынею, истинно тихая пристань. По этому случаю он не токмо что для выпивки находился, а как палата какая. Там и суд, и питра, и все: уж ежели задумали порешать какое дело, сейчас все гурьбой идут к кабаку, почему что нет места тоже; чуствия такого нет в другом месте. У них, знаешь, всеми вещами орудует ихняя сходка. Сходку собирает староста: с прутиком, понимаешь, расхаживает; за ним дела больше никакого нет. По правде сказать, пустая башка. А повыше там есть еще начальство: писарь, старшина, голова. Эвти жили не в нашем селе, а верст за пять, в деревне Анишине: в Анишине опять есть кабак и гульба такая же, как у нас: вчастую сам голова сберет мужиков к кабаку, на ихний счет нарежется и растянется; а мужики над ним песни поют; голова только бормочет: «Хорошенько, ребята!» Наша сходка почесть никогда не обращалась к начальству, кроме как ежели убийство, пожар сотворится где; сами все обделывали. Да ведь, поди, к примеру, покража учинилась, поди проси голову: сперва надо его небойсь упоштовать, – упоштвуй; а там он пошлет к старшине; эвтого тоже падыть уботворить; а там привяжется писарь – ему… Да неизвестно, пойдет ли дело в ход; а то правого и виноватого отхолят, и ступай, почесывай спину: «Ты, дескать, не воруй, а ты не разевай рот, не беспокой начальство». Что и толковать! А вот сами миром, собором… лучше!..
Расскажу, братец ты мой, я тебе оказию, как, стало быть, наш мужик пить-то охоч, да здоров. Пьянствует так, не роди мать на площади!.. ахти!.. Знамо, для меня эвто лучше требовать нельзя! мне какое дело! По мне хочь (в рассуждении чего избави боже, защити мать пресвятая богородица всякого православного христианина), хочь на месте опейся… мне все равно; что я, матка али дядька их, что ли?
Первым делом Покровский мужик замешан вот на чем: как значит, утро забрезжилось, заря еще не занималась, ни росинки во рту нет, глаз путем не прочистил, а уж чухает: как бы дерябнуть где да как бы объегорить кого! Ежели надуть некого, тащит что-нибудь свое; а если есть – прижидает времечка. Одно слово, один под другим подкапывает, один другого поддевает. Так расскажу… историй, сударь мой, не оберешься… Хочь, к примеру, возьмем такого сорта материю: весенней порой нашей сходке нужно было решать, когда выезжать в поле, – запахивать землю? с которого дня? с легкого али еще с какого? У мужиков делалось все собща: косить ли, жать ли, колодезь ли чистить, обманывать ли кого, всегда собиралась сходка. И прежде, как станут толковать, сложатся перва на четверть, ведерку, как какое дело потребует, и почнут судить. Тут тоже, касательно запахиванья. Выпили они четверти с полторы, давай судить: «Как? что? когда?» Ну порешили таким манером: запахивать чтобы беспременно в четверг, не в среду. «Смотри, мол, ребята, в четверг!» Так. После все разошлись по домам. Вот проходит понедельник, вторник. В середу, батюшка мой, и выезжает один мужик в поле (по чести сказать, бедный); помолился, занес соху и пошел пахать свою землю, сам озирается: не видит ли кто его; знает, что в середу не положено. Пашет. Прошел ряд, другой, глядит: идет мужик; за плечами несет мешок с мукой.
– Здорово, кум.
– Здорово.
– Бог помочь.
– Спасибо.
– Что, рыхла земля-то?
– Рыхла… ничего… Земля добро… Знатная. Прохожий мужик поглядел на небо:
– А что, небось теперя давно журавли прилетели? Ишь парит как!
– Таперь прилетели. Мишутка сказывал, недели две, как прилетели.
– Гм… Ну, прощавай.
– Прощавай.
И пошел мужик, идет дорогой да говорит:
– Постой ты у меня, я те журавлями такими попоштвую, другу-недругу закажешь по середам запахивать.
Приходит на село – прямо к старосте. Староста взял тросточку и ну ходить по дворам, постукивать под окнами:
– Эй! православные! ко цареву кабачку!..
Живо все собрались.
– Что?
– Да что? Федька запахивает землю.
– Как?
– Да так.
– Ребята! беги туда, к нему.
Человек шесть бросились в поле, подхватили у Федьки соху – и к кабаку. Я сижу под окошком, щелкаю подсолнышки, сам ухмыляюсь: «Мол, дружки!.. к чему прицепились».
– Ну-ко, – говорят, – Фадеич, отпусти две четвертки. Бог послал поживу: соху в поле нашли; вишь, до четверга забралась туда.
Я говорю: «Подите возьмите» (вижу, соха добрая). Две четверти невелика важность. Да смеюсь им: «Когда вы, бояре честные, перестанете кабак-от набивать всякою упряжью?»
– А все тогда же, – говорят, – когда нас на свете не будет.
Хорошо. Федька же, братец ты мой, стоит, смотрит на соху, так и дрожит: умолять не может сходку, а дрожит. Ну, ладно! Взяли мужики вино, выносят из кабака, а в сенцы ко мне волокут соху. Федька глянул на ее, да как бросится всем в ноги, кричит:
– Братцы! сошник хочь отдайте!.. Мужики ему бают:
– Одначе ты, Федор Зобов, ловок; словно набитых дураков нашел; кабысь мы не знаем, что в сошнике все и дело-то!.. Ловок, нечего сказать!
Потом обращаются к нему:









