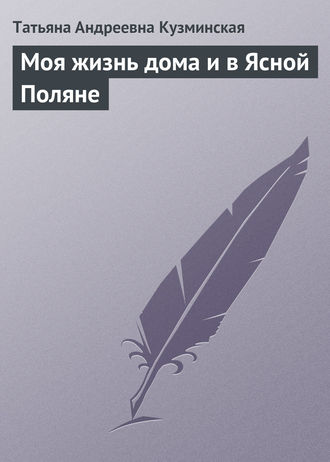 полная версия
полная версияМоя жизнь дома и в Ясной Поляне
– Вот когда время придет, – серьезно отвечала Агафья Михайловна, – тогда и прощу.
Ясенская милая тихая жизнь шла своим чередом. Купанье, прогулки, верховая езда и возня с детьми наполняли наш день. Изредка приезжали гости: Дьяков и Дмитрий Оболенский, с которым я познакомилась на балу. Это был очень милый, развитой юноша, светски воспитанный матерью. Помню и визит Горчаковых, родственниц Льва Николаевича. Приезжали две княжны лет 25–30 с строгой деспотичной, как мне говорили тогда, старой матерью их. Варя, Лиза и я, боясь ее строгой критики, не выходили в гостиную и сидели в комнате тетеньки.
– Чего сидите, идите в Гостиную, – говорила Наталья Петровна. – Лев Николаевич вас там представит княгине вот таким манером.
И Наталья Петровна, приставив локоть правой руки к груди, вывернув ладонь, указывала по очереди на нас трех, приговаривая:
«Племянницы, свояченица, гости…»
При слове «гости», не отнимая руки, она обводила круг. Мы все засмеялись.
– Какие же там еще гости? – не переставая смеяться, спросила Варенька.
– Чего хохочешь? – говорила Наталья Петровна. – Вот ты небось знакомить-то не умеешь. Намедни приехала акушерки дочь, Констанция с матерью, а ты меня с ней и не познакомила, а одна ты в комнате была.
– Как, Наталья Петровна, я называла вас, – говорила Варя.
– «Называла…» – передразнила ее Наталья Петровна. – Нешто так знакомят? Надо толком говорить: кто такая, да как кому приходишься, а то «называла».
Мы весело смеялись, когда нас позвали в гостиную, и нам пришлось идти.
Подойдя к старой княгине, мы присели ей. Она не подала нам руки, а, кивнув головой и глядя на нас в лорнет, проговорила:
– Bonjour, mesdemoiselles[124].
Но потом ко всякой из нас обратилась с вопросом по-французски. Княжны были очень милы, и с ними нам было легко. По указанию Сони, мы предложили им идти в сад. Гости пробыли у нас до вечера.
Приезжал к нам и Фет, выражая радость, что мы будем жить в Никольском, в соседстве с ними.
– Ведь это еще не решено, – сказала Соня. – Там дом очень тесный, хотя Левочка обещает всех устроить.
Фет настаивал на нашем приезде.
– Ваши друзья Дьяковы будут соседями. А как жене будет приятно, – говорил Афанасий Афанасьевич. – Я надеюсь, что мы тоже чаще будем видеться.
Я слушала их разговор и с грустью думала: «Далеко уедем от Пирогова… А на что оно? – тут же спрашивала я себя. – Чем дальше, тем лучше».
Помню, как завязался литературный разговор. Афанасий Афанасьевич вспоминал с любовью о поэте Тютчеве.
– И перед смертью его я в последний раз видал его. Ведь это было в январе, – говорил Фет, – он вызвал меня к себе.
Этот разговор заинтересовал меня. Я любила стихотворения Тютчева, списывала их и учила наизусть.
– А вы хорошо знали его? – спросила я Фета.
– Он был моим другом, если я смею его так назвать. Это был исключительный лирический талант, – обращаясь более ко Льву Николаевичу, чем ко мне (что меня немного обидело), сказал он, – и исключительный человек по своей скромности. Когда его талант хвалили ему в глаза, он корчился, как от чего-то постыдного.
Фет в своих воспоминаниях о Тютчеве пишет о его скромности: «Как ни скрывайте благоуханных цветов – аромат их слышится».
– Но кроме его таланта, – продолжал Фет с улыбкой, обращаясь уже ко мне, – у него был превосходный кофе, который он очень, очень любил и не раз угощал меня им.
Я сделала серьезное лицо и отвернулась в сторону. Но, собственно говоря, Фет был прав. Отворачиваться от него не стоило.
В те времена я даже не знала, что значит «лирический», так как никогда не имела, кроме сестры Лизы, русского хорошего учителя. И вообще ученье я терпеть не могла и была очень мало образована.
Потом припоминал Лев Николаевич, как он ехал с Тютчевым четыре станции:
– Я слушал с таким удовольствием этого умного величественного старика. Я тогда писал вам об этом, Афанасий Афанасьевич. Почти в один год потеряли мы двух хороших и талантливых людей: бедный Дружинин, как он страдал перед смертью. Это был удивительно милый, хороший и чистый душой человек, – говорил Лев Николаевич, – его повесть «Полинька Сакс» как просто, правдиво и жизненно написана.
Тургенев эту весну приезжал в Россию и в Москву, но в Ясной Поляне он не был. Примирение со Львом Николаевичем тогда еще не состоялось.
VIII. Приезд Сергея Николаевича
Это было в начале мая. Стояли жаркие дни, лучшие в году, со свежей зеленью, голубым небом, кукушкой и соловьем.
Долгуша, запряженная парой, стояла у крыльца дома. Мы ехали купаться на Воронку, за полторы версты. Доехав до горы, к спуску реки, мы встали и весело наперегонки побежали вниз. Соня с нами. Она всегда великолепно бегала. Быстро и красиво неслась она с горы, заражая нас своим бодрым духом. Нас было пятеро: девочка Душка, теперь уже шестнадцати лет, была вечной нашей спутницей. Я любила ее за ее не-злобливость и спокойствие, Она была небольшого роста, с длинным лягушечьим ртом и серыми вопросительными глазами. Бывало, когда кто-нибудь из мальчишек пристанет к ней, чтобы раздразнить или обругать ее, это случалось довольно часто, она не сердилась, а только огрызнется: «сам съешь», – и отвернется.
Река Воронка, наша ясенская отрада, небольшой приток Упы, запруженная, имела довольно глубокие места, и потому было где плавать. Душка хорошо плавала и первая бросалась в реку.
– А знаете, барышня, – говорила она Лизе (она особенно любила ее), – я чуть не потопла раз.
И Душка рассказала, как мы пошли раз с ней вдвоем на реку. Дора – собака наша – с нами:
– Я, значит, поплыла на глубокое-то место, а Дора-то за мной, да лезет мне на шею и лапами-то голову топит… Испугалась же я, – захлебываясь, говорила Душка.
– А я вижу, что Душка-то под водой, – вмешалась я в разговор их, – и со страху не знаю, что делать. Место у плотины глубокое, и я отчаянным голосом зову: «Дора, Дора, ici[125]», а Душка уже бульки пускает…
– Ну, тут Дора-то наша, знать, уж поняла, – продолжала Душка, – и поплыла на зов Татьяны Андреевны, а то, однава дыхнуть, потопла бы я!
«Однава дыхнуть» – было любимое выражение Душки, она часто употребляла его; для меня оно было ново, и потому я запомнила его.
Во время нашего купанья нашла темная туча, и подул легкий майский ветер.
Мы стали торопливо одеваться. Крупными каплями накрапывал дождь все сильнее и сильнее. Спасаться было некуда и невозможно. Из-за тучи выглянуло солнце, и, помню, как над рекой показалась яркая радуга. И этот дождь, и эта радуга были удивительно красивы.
Приехав домой, Варя, Лиза и я побежали прямо к тетеньке, с распущенными волосами и прилипшими мокрыми платьями. Вид наш был ужасен, но мы хотели успокоить тетеньку, что мы дома.
Лиза бежала вперед и быстро отворила дверь. Первого, кого мы увидали перед собой, это – Сергея Николаевича. Удивление, ужас и радость сразу охватили меня. Девочки бросились к нему на шею с радостным визгом. Я стояла молча, как вкопанная. Кроме неожиданного свидания, меня смущал мой ужасный, как мне казалось тогда, невозможный вид. Я всегда заботилась о своей наружности. Поздоровавшись с девочками, он подошел ко мне. Я молча протянула ему руку.
– Вы недавно приехали? «Avec les hirondelles»[126], – как говорит тетенька. Как это хорошо! Мне писал о вас Левочка.
Все это говорил он все тем же спокойным, ласковым голосом, какой я знала прежде. В глазах его я ожидала прочесть известное осуждение, но этого не было. Я спрашивала себя: «Что же будет теперь? Зачем он приехал?», – но ответа на свои вопросы не получала.
Уже поздно. Все разошлись. Мария Николаевна с горничной Гашей и девочками заняла тот флигель. Я на эти дни перешла туда, чтобы не расставаться с ними.
Марию Николаевну от нашей комнаты отделяет гостиная с балконом. Наша комната во втором этаже. С балкона открытый вид вдаль. Девочки уже легли. Лиза, кажется, уже заснула. Вокруг нас все тихо. Я сижу на окне. Перед окном яблочный сад в полном цвету. Пахнет черемухой.
– Таня, ложись, ложись спать, милая, уже поздно.
– Варя, я не могу спать в такую ночь, да ты взгляни, что за красота!
Варя не отвечает, она устала.
– Слышишь, как филин кричит? – говорю я. – Это в Чепыже.
– Да, слышу… Левочка говорит, что зайцы так кричат!
Снова молчание и тишина.
– Варя, ты спишь?
– Нет, – отвечает Варенька сонным голосом.
– Варя, зачем он приехал?
– А ты ему не рада?
– Варя, я хочу быть свободной – никого не любить. А я чувствую, что я слишком рада ему… и не свободна!
– Танечка, тебе трудно быть свободной с твоим характером!
Мы молчим. Я думаю: «она права».
– Слышишь? Филин опять кричит… и так жалобно…
– Да, кричит…
Варенька засыпает. Я неподвижно сижу на окне. Тишина этой торжественной ночи нарушается иногда непонятным шорохом в траве, запоздалым чириканьем маленькой птички. Мне делается вдруг нестерпимо жаль всех, всех: и филина с жалобным криком, и Душку, обиженную мальчиками, и маленькую суетливую птичку. Зачем она не спит? Что с ней? И жаль себя, и свою молодую, загубленную жизнь, как мне представлялось в эту ночь.
В воздухе чувствовалась свежесть. Небо уже отливало утренней красной зарей. Варенька заснула безмятежным сном, а я все еще сидела у растворенного окна.
Но усталость берет свое и, помолившись на небо, так как в комнате не было образа, я легла и заснула молодым девичьим сном.
На другое утро мы все сидели за чайным столом, когда вошла в столовую монашка, как звала ее Наталья Петровна.
– Мария Герасимовна, это ты? Здравствуй, милая. Откуда? – спрашивает Мария Николаевна.
– А-а, Мария Герасимовна! – приветствует ее Лев Николаевич.
– Из Тулы, матушка, из монастыря, пешком шла, страсть устала.
– Садись, садись, чаю налью, – говорит Наталья Петровна.
Пока Мария Герасимовна пьет чай, скажу несколько слов о ней.
Она была крестной матерью Марии Николаевны. Это было так.
У матери Марии Николаевны было четыре сына, когда она снова ожидала ребенка. У нее, по словам тетушки Пелагеи Ильиничны, было страстное желание иметь дочь. Она дала обещание, что, если родится дочь, ей будет крестной матерью первая попавшаяся женщина, которая поутру встретится на дороге. Совет этот дала ей одна из странниц, посещавших их дом. Когда в 1830 г., 7 марта родилась дочь, то в Тулу был послан старый слуга для исполнения обета. Помолившись Богу, как мне рассказывали, вышел слуга на улицу. Он еще с вечера приехал в Тулу. Навстречу ему попалась монашенка из тульского женского монастыря. То была Марья Герасимовна. Она была полуюродивая, скорее же притворялась ею. Сухощавая, высокая, с небольшими хитрыми, серыми глазами, она с легкой усмешкой глядела на людей. В молодые годы Марья Герасимовна в мужском подряснике ходила по городам и селам и сбирала на монастырь. Лев Николаевич часто наводил ее на тему ее странствований и со вниманием слушал ее рассказы. Она послужила ему в «Войне и мире» типом странниц у княжны Марьи.
А то, бывало, Лев Николаевич скажет ей:
– Ну-ка, Марья Герасимовна, затяни «Своим духом восхищаться».
И монашка фальшивым, ровным голосом затянет на божественный мотив:
Своим духом восхищаться,В скорбях мира нам спастись.В мир мы посланы трудиться,Молитвой к Богу вознесясь.– Посмотри на выражение ее лица, – скажет Лев Николаевич, – как оно значительно и серьезно.
Матери Марьи Николаевны все же не пришлось радоваться на дочь – она вскоре умерла.
– Ты, что же это, Мария Герасимовна, со странствования пришла? Куда Богу молиться ходила? – спросил Лев Николаевич.
– К Троице-Сергию ходила, батюшка, угоднику поклониться, – говорила Марья Герасимовна, с видимым удовольствием выпивая бесчисленное количество чашек чая. – Христа ради ходила, ни гроша с собой не брала.
– Что ж, подавали тебе? – спросила тетенька.
– А то как же, матушка, а уж купцы-то, дай им Бог здоровья, щедро дают.
– Марья Герасимовна, а многих ты там ограбила? – спокойным голосом, улыбаясь, спросил Сергей Николаевич.
Варя, Лиза и я невольно засмеялись, хотя и очень осторожно.
– Ах! что вы, что вы, батюшка! Во Имя Господне просишь, а вы говорите – ограбила.
– Vous l'offensez[127], – недовольным тоном указала Марья Николаевна.
Эта сцена почти целиком вошла в «Войну и мир», потому-то я ее так хорошо и запомнила. Лишь лица и слова другие.
– Да у вас тут, я видел вчера, Воейков гостит? – сказал с усмешкой Сергей Николаевич. – Он у меня целый месяц гостил.
– Да, он недавно только пришел, – сказала Соня.
– Недавно пришел, а у Дуняши нашей уж травничку выпросил! – сказала Наталья Петровна.
– Душечка, Наталья Петровна, вы всегда все чужие секреты открываете, – улыбаясь, сказала тетенька.
Вскоре все разъехались. Сергей Николаевич пробыл всего два дня. Марья Николаевна решила провести лето в своем другом имении Покровском, Чернского уезда. Оно досталось ей после смерти ее мужа.
– Может быть, еще увидимся летом, если будете жить в Никольском, – говорили дезочки, с сожалением уезжая из Ясной. – Дядя Левочка, устрой, чтобы вы приехали в Никольское, пожалуйста, – молили они. – И мамаша будет так довольна.
– Может быть, и приедем. Мне самому надо быть там по хозяйству, – говорил Лев Николаевич.
IX. Никольское
Пора, пора привести к концу рассказ о романе с Сергеем Николаевичем. Даже я нравственно устала писать его.
Прошла неделя. Я была уверена, что Сергей Николаевич больше не приедет в Ясную. Мне было трудно поверить этому, трудно справиться с своим чувством, тем более, что я осталась одна, без своей участливой милой Вареньки. Соня недоброжелательно относилась к Сергею Николаевичу. Она осуждала его, и я избегала с ней говорить о нем. Она говорила мне:
– Что ты можешь ожидать от него? Маша – подруга его пятнадцатилетняя, мать его детей и отличная женщина. Сереже сорок лет, без малого, и это чувствуется на каждом шагу. Нет ни силы той, ни энергии, ни желания счастья, а есть спокойствие сорокалетнее, благоразумие. А ты, Таня, – огонь! Ты не будешь с ним счастлива.
Хотя я и избегала говорить с Соней, но понимала, что она права.
Но я ошиблась: Сергей Николаевич приехал через несколько дней в Ясную по какому-то делу. Льва Николаевича не было дома – он был в Туле. Мы провели этот день вместе.
Вечером, оставшись одна, я испугалась своего впечатления от его пребывания и строго отнеслась к себе. Но это только на один вечер. Начались снова его частые посещения. Он проводил в Ясной дни, вечера… Лунные, светлые, майские, сумасшедшие ночи, какие только и бывают в мае. Тут не было места рассуждениям, не было места благоразумию, совести! С новой силой вернулось все прежнее, пережитое нами. С восемнадцатилетним доверием я слушала его. А что слушала? Не знаю. Обычных слов любви, какие говорят в этих случаях, ни я, ни он, мы никогда не произносили. За нас говорила ночь, луна, его последнее увлечение и моя первая серьезная любовь.
Соня очень хорошо характеризует нас в своих воспоминаниях:
«Сергей Николаевич проводил с сестрой много времени, гулял, разговаривал с ней, а главное, восхищался ею чрезмерно. Это всегда подкупает нас, женщин». И Соня была опять права. Прежде это кружит голову, а потом совершенно естественно заставляет любить, а в особенности такого исключительного человека, как Сергей Николаевич.
Когда после последнего его приезда в Ясную прошла уже неделя, я поняла, что снова произошло что-то значительное и непонятное для меня. Спросить было не у кого. Я чувствовала, что все что-то скрывают от меня. Наконец, Лев Николаевич, видя мое тревожное настроение, решил открыть мне все то, что он знал и думал об этом. Он сказал:
– Сережа пишет мне, что у него большие неприятности дома, что он постоянно находится или под влиянием Марии Михайловны, или твоим, что, если он оставит Машу, то погибнет вся семья, так как она никогда не оставалась одна и совершенно будет беспомощна; что он чувствует, что ее положение будет невозможное, и, оставив ее, он сделает ее и твое несчастие. Что же касается Гриши, то он будет брошен на произвол судьбы. И многое еще он пишет в этом роде. Про тебя пишет: «Бог знает, что я сделал, имени нет моему поступку! Анатоль, которого я осуждал, в сравненьи со мной – самый благородный человек. Я все эти несчастные десять дней лгал, думая, что говорил правду, но теперь, когда я вижу, что надо окончательно кончить с Машей, я вижу, что мне это совершенно невозможно. Что из этого всего будет, не знаю, но оставить ее я не могу. Я по подлой нерешительности и слабости сказал тебе, что женюсь на Татьяне Андреевне… И если опять ее увижу, опять буду уверять ее в том, чего сделать нельзя. Я все эти десять дней чувствовал, что я делаю Бог знает что, но остановиться не мог… Я чувствую, что я ее не стою, но она будет оскорблена, и это страшно… Что делать? Сделать что-нибудь подлее моего поступка трудно».
Я молча слушала Льва Николаевича, молча и ушла от него. Что я могла сказать ему? Я слишком страдала.
Вечером этого же дня я написала Сергею Николаевичу письмо, что между нами все кончено, что хотя я и люблю его, но вижу полную невозможность нашего брака. Это письмо я отдала Льву Николаевичу. Я получила длинный ответ от Сергея Николаевича, в котором он просил меня не возвращать слово, что время все уладит, и что он по-прежнему меня любит.
От Марьи Николаевны я узнала, что с моим письмом он поехал в Покровское и просил Марью Николаевну написать мне, что не надо отказывать ему, что все уляжется и устроится. Но Марья Николаевна отказалась писать это, говоря, что этого нельзя ей сделать, потому, что и Левочка и Соня не верят в возможность этого брака, и что Таня теперь, судя по письму Левочки, ни за что не согласится на это.
Разговор со Львом Николаевичем на меня сильно повлиял, как и давность неясных отношений наших, которые должны прийти к концу.
Варенька пишет о пребывании Сергея Николаевича у них в Покровском:
«Он, страдая не менее Тани, говорил моей матери, когда приезжал к нам: „Машенька, что мне делать? Я так сильно люблю Таню, а когда приеду в Тулу и увижу Машу, ее убитый вид и безропотное, покорное горе, – душа моя разрывается на части. Вхожу я раз к ней, с намерением переговорить о своем окончательном решении жениться на Тане, отворяю дверь и вижу – стоит она на коленях и так трогательно молится, а сама вся в слезах. И я не могу говорить“.
Я сказала: „Он любит только Машу, а не меня“. Я еще раз сознала ясно невозможность нашего брака. Я написала письмо родителям о нашем разрыве, так как Соня писала им о возобновлении наших отношений. Лев Николаевич приписал им в моем письме (оно сохранилось). Приведу его, несмотря на то, что оно лестно для меня, но в нем виден взгляд Льва Николаевича на наш разрыв:
1865 г. Июнь [25-е].
„Милые папа и мама, не огорчайтесь очень и не ужасайтесь тому, про что я вам буду писать. Мама была справедлива, говоря, что не конча с Тулой, дело не решено. Теперь оно решено, но иначе. Сережа уехал в Тулу и написал оттуда письмо, что она в отчаянии, девочка очень больна, что так вдруг, как мы хотели, нельзя кончить, надо время, что сам он в отуманенном состоянии, под чужим влиянием, т. е. или под М. М. или под моим, и все твердит: „дайте время, подождите“.
Вчера писал он со станции по дороге в Покровское к Машеньке, куда уехал опомниться. Последние его два письма так мне показали ясно несчастие его семейства, его мучения, нерешительность, Маша (Левочка у ней был сегодня) с такой кротостью и покорностью идет на все и так ей это тяжело, а чрез это и ему тоже, что я решилась и написала ему отказ. Не удивляйтесь и не горюйте об этом, иначе я сделать не могла, у меня бы всегда это было на совести, а теперь может быть все будет к лучшему.
Писать вам подробнее и больше и трудно, и не могу. Не расстраивайтесь этим, и ты, милый папа, смотри на это как можно легче – все пройдет и все будет хорошо. Целую вас крепко. Мамаша, вы тоже меня не очень жалейте, я поступила очень хорошо.
Таня“».Далее приписка Льва Николаевича:
«Что прибавлять к этому чудному письму? Всё это правда, всё от сердца и всё это прелестно. – Я всегда не только любовался ее веселостью, но и чувствовал в ней прекрасную душу. И она теперь показала ее этим великодушным, высоким поступком, о котором я не могу ни говорить, ни думать без слез. – Он виноват кругом и неизвиним никак. Ему надо было прежде всего кончить в Туле. Мне бы было легче, ежели бы он был чужой и не мой брат. – Но ей, чистой, страстной и энергической натуре, больше делать было нечего. Стоило ей это ужасно, но у нее есть лучшее утешение в жизни – знать, что она поступила хорошо. – К лучшему или к худшему это поведет ее? Этого никто не знает. Мне же всегда казалось и теперь больше, чем когда-нибудь, что он ее не стоил. Дай Бог ей силы перенести это. Первый день был тяжел, она ничего не ела, не спала и всё плакала. Теперь она спит в первый раз, и завтра мы едем в Никольское. – Кроме того, ежели точно они сильно любят друг друга – ничто не потеряно. Поступок Тани должен показать ему, что он теряет в ней. – Одно, что я знаю, это то, что они не должны и не будут видеться до тех пор, пока он не будет совершенно свободен. Но ее решение кажется серьезным, тем-то оно и трогательно. – Она несколько раз нынче повторяла: „теперь я не выйду за него ни за что“. Решение это пришло ей вдруг и совершенно неожиданно. Вдруг из ребенка она сделалась женщиною, и прекрасной женщиной. Не знаю, как вы оба примете это, и боюсь и вашего горя и упреков, которые вы, может быть, сделаете нам. Говорите всё, что вы думаете. – Но горевать не о чем. С таким сердцем она не может быть несчастлива. Прощайте, с замиранием сердца жду вашего ответа. Адрес в Чернь, в село Никольское».
Имение Никольское Тульской губернии Чернского уезда, находится в 100 верстах от Ясной Поляны[128]. Железной дороги тогда еще не было, и переезд на лошадях, частью по шоссе, а частью проселком, представлял немало хлопот и затруднений с ночевкой на постоялом дворе, да еще с детьми.
Никольское очень красивое имение, с холмистой местностью, с лесом на берегу извилистой реки, которая протекает недалеко от дома.
Мы ехали в двух экипажах с обозами и людьми. В карете ехали двое детей, няня и я. В коляске – Лев Николаевич с Соней. Тетенька и Наталья Петровна остались в Ясной. Дорогой меня развлекали новые места и дети. По очереди они сидели у меня на коленях. Таня была очень живой и забавный ребенок; она забавляла меня своей смышленостью.
– И что же это вы, Татьяна Андреевна, так присмирели, – говорила мне Марья Афанасьевна. – Ни песен, ни смеха вашего больше не слышно.
– Так, няня; то было хорошо – и я была счастлива, а теперь все не то, ведь вы сами, небось, знаете.
– Э, матушка, об этом-то горевать не стоит. Дело-то проходящее – молодое! Женихи-то будут!
Няня судила по-своему, просто и жизненно, и никаких сентиментальностей не допускала.
Мы ехали с остановками, кормили лошадей, ночевали. Но как? Где? Не помню. Я ехала, как во сне, относясь ко всему безучастно.
В те времена в Никольском был небольшой дом. Прежде оно принадлежало старшему брату Льва Николаевича, – Николаю Николаевичу. Рядом с усадьбой стояла церковь, чему я была очень рада. В доме было пять комнат: общая столовая – довольно большая, коридор, три комнаты жилых и маленький кабинет Льва Николаевича.
Соня много хлопотала, устраивая всех нас. Я хотела помочь ей, но она не хотела утруждать меня.
Не получая ответа на свое письмо, Лев Николаевич снова пишет отцу [30 июня 1865 г.]:
«Пишу вам из Никольского, где мы живем 3-й день. Не могу без замирания сердца думать о вас, не зная вашего взгляда на это дело – всё, что вы думаете и говорите. Дело вполне кончено. И как ни тяжело Тане и всем нам, я в глубине души не могу не чувствовать тайной радости, что меньшее несчастье спасло нас от большего. – Я, приехавши в Никольское, тотчас же поехал в Покровское, чтобы видеться с братом. Я виделся с ним, я думаю, последний раз. Он теперь уехал в Тулу. Наше же намеренье состоит в том, чтобы пробыть здесь месяца полтора в новых для Тани местах, в близости ей приятных людей – Дьяковых, Машеньки с детьми. Теперь самое для вас интересное – о ней. – Она трогательна до последней степени, – кротка и грустна. Первые два дня она нас пугала, но теперь я, по крайней мере, спокоен за ее здоровье. Я твердо надеюсь, что она успокоится и всё пройдет, и пройдет этот раз хорошо и совсем. У нее столько еще впереди с ее прелестной натурой и сердцем. Для большего еще укрепления ее здоровья мы придумали с Соней заставить ее пить кумыс со мною вместе. Она не отказывается, хотя надобности никакой нет, но она любит этот напиток. – Дальнейшие планы наши следующие. В августе мы приедем в Ясную, пробудем с месяц. В сентябре приедем в Москву, пробудем с месяц, которым я воспользуюсь для печатания 2-й части моего романа, и поедем на зиму за границу – в Рим или Неаполь. Разумеется, с Таней, ежели вы ее поручите опять нам и не упрекнете нас за то, что мы плохо уберегли ее. Я боюсь и предчувствую, что вы упрекнете меня в душе. Пожалуйста, выскажите мне всё. Но, право, виновата во всем судьба. Так Богу угодно было, и не могу не думать, что то, что мы теперь называем несчастием, может быть, очень скоро мы назовем большим счастьем. – Прощайте, пишите поскорее. – Не знаю, припишет ли вам Соня. О том, что я вам писал, она думает так же, как и я, только с оттенком озлобления, очень справедливого, против брата, но я старее ее, и он мой брат. Я виню его и не желал бы быть в его положении с таким поступком на душе. Tout comprendre c'est tout pardonner[129]. Он виноват в легкомыслии обещать, не развязав прежде прежних отношений, но после этого он страдал не меньше ее, даже больше. Он мне повторял еще последний раз, что я только прошу времени; но мы знаем, и Таня с оскорблением почувствовала, что он не в силах разорвать прежней связи.

