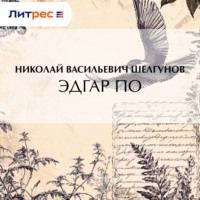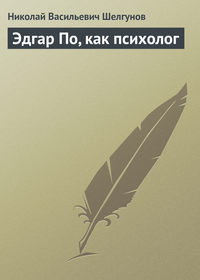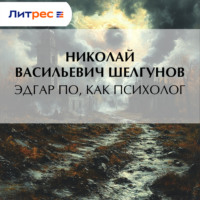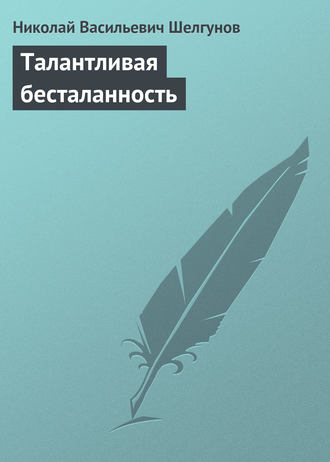 полная версия
полная версияТалантливая бесталанность
IV
Переносить разбор «Обрыва» на научную почву – значит подвергнуть себя обидному неудобству, ибо приходится превращаться в Дон-Кихота, а г. Гончарова превращать в ветряную мельницу. Можно ли вступать в серьезное научное состязательство с человеком, совершенно незнакомым с последними успехами точных знаний и их методом? Можно ли серьезно опровергать человека, который даже науку хочет превратить в простой подбор красивых слов и в трескучую риторику, возбуждающую чувство? Г. Гончаров в интеллектуальном отношении всегда верен себе: есть у него микроскопическая крупица знаний и собственной умственной силы, и разводит он эту крупицу в бочках розовой воды, приобретенной по наследству от романтиков и идеалистов. А что же читающая публика? О, русская публика всегда была снисходительна в своей недальнозоркости; она всегда любила розовую воду; она серьезно признает г. Гончарова за великого мыслителя и поучается у него.
Если г. Гончаров повествовал без всякой тенденциозности о том, что где-то на берегу Волги жила мечтательная кисейная барышня, что этой барышне подвернулся на глаза дикий, некультивированный человек и, сбив ее с толку, сделал с нею то, что ему делать не следовало, – мы бы так и знали, что дикий человек поступил по-дикому, пожалели бы бедную девочку, а г. Паульсон занес бы этот нравоучительный факт в свою книжку для чтения. Но г. Гончаров думает не так. Он во что бы то ни стало желает уподобиться московскому купцу, о котором рассказывает где-то покойный Марлинский[15]. Купец, усиливаясь доказать вред нового образования, привел следующий факт: «Был у нас молодой купчик, – рассказывал купец, – захотелось ему непременно учиться, выучился, и что же? Отправился на службу на Кавказ, а там – в первом сражении его убили». Пусть г. Гончаров и все его поклонники докажут, что его логика отличается хотя чем-нибудь от логики этого московского купца.
Местами вы действительно видите, что Марк – лично ошибающаяся натура, недоразвившийся человек; но когда г. Гончаров, гоняющийся только за красивыми словами, забыв о том, что он говорил в четвертой части, в пятой, сосредоточив все свои умственные силы, обрушивается на новое знание, вы видите, что перчатка бросается не одному заблуждающемуся человеку, а всему цивилизованному человечеству, всему коллективному передовому уму всех пяти частей света. Может быть, и найдутся такие патриоты, которые умилятся, что в России нашелся подобный смелый ум. Мы не из их числа. Нам стыдно за возможность подобного тиранизма, и нам больно за г. Гончарова. Мы постараемся перевести философию г. Гончарова на простой, понятливый язык, и пусть читатель судит, на чьей стороне правда, Г. Гончаров говорит, что европейское общество внесло новый взгляд на все, взгляд, полный отрицания.
Это правильно. Но позвольте вас спросить: худо или хорошо, что люди, усомнившись в действительности услуги трех китов, нашли закон тяготения? Худо или хорошо, что, усомнившись в четырех элементах и флогистонной теории[16], нашли большее число начал и научились разлагать воздух и газы? Чему мы обязаны железными дорогами, пароходами, всеми техническими усовершенствованиями в фабричном и заводском производствах, как не сомнению и последовавшему за ним научному отрицанию? Научный метод исследования говорит, что истина дается только проверкою. Что бы было, если бы отрицание предыдущих знаний не принимало того дерзкого характера, который нарушает умственный покой г. Гончарова. Уж, конечно, г. Гончаров очень бы изобиделся, если бы ему преподнесли за «Обрыв» полный костюм китайского мандарина, бритву для сооружения соответственной шевелюры и две готовые косы.
Г. Гончаров говорит, что дерзость нового европейского исследования простирается до того, что отрицаются авторитеты, старая жизнь, старая наука, старые добродетели и пороки. Это правильно; но только нам нужно объясниться. Действительно, наука признает только то, что подчиняется и подлежит опыту. Ведь вы, г. Гончаров, в домовых не верите? А ведь уж как хороша была повесть Иваницкого «Неразменный червонец»! А почему? Да только потому, что г. Иваницкий пишет хотя и хорошо, а домового вам все-таки не показал. Ведь вы не верите Аристотелю, Платону, экономической теории Сюлли[17], фортификационной теории Вобана[18], стратегическим основам Валленштейна[19], Монтекулли[20] и даже Суворова, политической мудрости Людовика XIV, драматической теории о трех единствах, забытым исследованиям натуралистов прошлого столетия и даже философии Гегеля. Значит, вы и сами поступаете так, как человек, живущий в XIX веке. За что же вы обвиняете других? Вы говорите о добродетелях и пороках. И эта почва недурна. По учению Сильвестра[21], добродетелью считалось сокрушить ребра своим чадам и домочадцам. Упражняетесь вы в этой добродетели, г. Гончаров? По учению наших дедов, живущему и до сих пор в деревнях, ремень считался лучшим педагогическим средством, – станете вы колотить детей? Станете вы стеснять свою дочь в выборе мужа? станете вы внедряться со своим авторитетом в чужой внутренний мир? станете вы требовать уважения и любви силой? Станете, наконец, вы уверять, что старые добродетели и до сих пор добродетели, а старые пороки и до сих пор пороки? Если все старое так незыблемо хорошо, отчего каждая петербургская кухарка стала говорить извозчику вы; отчего прежний Петр и Васька превратились в Петров Ивановичей и Васильев Петровичей? Отчего, может быть и бессознательно для вас, мысли Стюарта Милля произвели кое-какую перемену в ваших понятиях, и вы почувствовали бы себя великим несчастливцем, если бы вас перенесли в степную деревню да женили на деревенской бабе?
Г. Гончаров говорит, что в новой науке есть односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды. Все это правда. Но когда было больше пробелов в знаниях – нынче или во времена Эразма Роттердамского?[22] Когда было больше односторонности в русской мысли – во времена Ломоносова или теперь? Умышленная ложь кажется г. Гончарову очень неотразимым аргументом. Действительно, лгать вообще нехорошо. Но ведь ложь, в смысле научной пропаганды, есть не более, как сила, концентрирующая ум на известной точке, дающая ему направление в одну, наиболее выгодную сторону. Отчего явились паровая машина, железные дороги, пароходы, телеграфы, швейная машина, орудия – машины, даже велосипед? Именно потому, что пропаганда направила человеческое мышление в известном, одном направлении. Теперь мысли людей направлены на исследование причин, от которых зависит личное счастье. Худо это? И паровая машина далась рядом опытов, и Стефенсон не вдруг поехал по железной дороге!
Г. Гончаров говорит, что новая наука не открыла Америки. А разве старая открыла? Разве человечество со времени Адама было хоть одну минуту убеждено, что оно владеет истиной и что ему некуда идти? Г. Гончаров спрашивает, что такое истина? Да истина то, что признает человек истиной в данный момент. Вот автор «Обрыва» в 1847 году говорил одно и был убежден, что проповедует истину; а в 1869 году он говорит другое и тоже убежден, что проповедует истину. Безусловная истина, заключающаяся в общем примирении – отдаленный идеал. Она еще далеко впереди, и вся сущность прогресса человечества заключается в постоянном поступательном движении к этому идеалу. А г. Гончаров огорчается, что еще не открыта Америка, и хочет удержать всех в Азии. Ну, конечно, если бы г. Гончаров был Изабеллой испанской, то Колумб умер бы в сумасшедшем доме.
Г. Гончаров говорит, что современный реализм видит в чувствах ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. Во-первых, сравнительная психология показывает, что и в животных есть иллюзия. Так, собака принимает иногда чужого за своего хозяина; так, еще Линней[23] в числе специальных, характеристических признаков собаки поместил, что она лает на луну. А во-вторых, г. Гончаров поступает очень неосторожно, разоблачая самого себя. Реализм требует прежде всего здоровой, правильной, нерасслабляющей жизни. Ни один действительный реальный писатель не станет описывать тех сцен сладострастия, которыми г. Гончаров только и существует в своем «Обрыве». Возьмите любого европейского романиста, – не говоря уже про Шпильгагена, Шатриана[24], Гюго, – возьмите романистов Англии, Америки, даже Франции, где, у какого романиста, кроме Луве-де-Кувре[25], вы встретите сцену, подобную сцене Ульяны с Райским и Райского с Марфенькой? Как ни сочувствует г. Гончаров Райскому и как ни чудовищен Марк, но скажите, можно ли их сравнивать в этом отношении? У самого г. Гончарова не поднялась рука нарисовать невозможную картину с Марком; он понимал, что его могут уличить даже и друзья.
Г. Гончаров не признает закона причинности и верит в моисеевский принцип награды и воздаяния. Это совсем не по-христиански, – мы должны поступать хорошо вовсе не потому, что получим в будущем награду, и, конечно, если бы г. Гончаров писал свой роман не для степных кисейных барышень, а для мыслящих людей, он бы понял всю логическую невозможность высказывания подобных мыслей. Тургенев рассуждал на эту тему гораздо сильнее, и мы не можем не уважать в нем искреннего, честного человека. Г-н же Гончаров подогревает себя и становится на ходули и решительно не возбуждает убеждения в своей искренности. Несмотря на теплые, по-видимому, фразы, от романа г. Гончарова веет холодом, измышлением, безучастием к людям, мелочным эгоизмом. Г. Гончаров изумляется, что новая наука и новая нравственная философия явились из старой. Да разве это могло быть иначе? Бокль весьма наглядно объяснил сущность исправления ошибочных учений. Оно заключается не в измышлении нового, а только в уничтожении, вычеркивании из жизни старых заблуждений и данных для возможности ошибок.
Вот и вся сущность отрицательного отношения г. Гончарова к прогрессивному движению современной науки. И такая крупица отсталых мыслей послужила материалом для сооружения огромного пятитомного романа. Поистине изумительный талант плодовитости!
Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском справедливо замечает, что между писателем и его читателями не должно быть бездны, а иначе его не поймут. Не этим ли следует объяснить появление «Обрыва» и большой на него запрос? Мы положительно знаем, что лучшие русские люди бросали «Обрыв» с четвертой части; но также положительно знаем, что значительное большинство читало «Обрыв», продолжает его читать и скромно отмалчивается, если спрашивают его мнение о романе. Это похвально, потому что ее усиливает торжества ретроградной пропаганды.
И жаль, что г. Гончаров не мог понять в свое время, что здравый смысл подкупать нельзя. Даже самый непроницательный читатель поймет, что «Обрыв» – сочинение, что обобщение г. Гончарова – ложь, что не было еще примера, чтобы молодая сила, в составе целого поколения или его представителей, становилась на тот логически невозможный путь, который придумал г. Гончаров. Шлейхер даже «Дым» г. Тургенева называл пасквилем и говорил, что беллетрист должен изображать более идеализированную, нежели действительную жизнь, со всеми ее дрязгами. А г. Гончаров дает хуже, чем пасквиль: он идеализирует крепостные времена, исчезнувшие для нас безвозвратно, и серьезно проповедует, что счастье только в былом русском обскурантизме. На такой вывод навела его кисейная Вера. «Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, – не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой „цивилизации“, которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении…» Так говорит в защиту мировоззрения Татьяны Марковны г. Гончаров на 35 странице пятой части, а на 567 стр. второй части он заставляет Райского после бесплодной попытки обращения к новой «цивилизации» той же Татьяны Марковны высказать следующее умозаключение: «Как жизнь-то эластична!.. во что хочешь веруй: в религию, в математику или философию, – жизнь поддается всему…»
И нужно согласиться, что почти все беллетристы русской земли насчет литературного творчества держатся теории Эсхила. Грекам того времени действительно приходилось работать лишь из непосредственного созерцания жизни и природы; но чтобы быть беллетристом нашего времени, одного таланта далеко не достаточно. Прежде всего требуется знание. Беллетрист должен знать столько же, сколько знает всякий публицист. Резюмируйте весь роман г. Гончарова в виде публицистической статьи, и получатся лишь следующие шесть афоризмов:
«Европейское общество внесло в жизнь новый взгляд на все, взгляд, полный отрицания. Дерзость нового европейского исследования простирается до того, что оно отрицает авторитеты, старую жизнь, старую науку, старые добродетели и пороки. В новой науке есть односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды. Современный реализм видит в чувствах ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их от всяких иллюзий (!), составляющих роскошь человека, в которой отказано животному. Закона причинности нет».
Попробуйте с подобной статьей явиться в любую редакцию, хоть бы того же «Вестн. Европы», который напечатал «Обрыв», и вам скажут, что статья слишком мала, недостаточно развита, не заключает в себе не только ничего нового, а, напротив, идет прямо вразрез с состоянием современных знаний и потому неудобна для печати. Но не только эту чушь, даже две строчки из нее изложите в форме удобочитаемой повести или романа, подпишите: «И. Гончаров» – и любая редакция не только напечатает роман, но нашумит своими рекламами от Архангельска до Одессы и приобретет по меньшей мере две тысячи новых подписчиков. Кого следует винить – редакцию или публику? Редакцию, – скажем мы. Нельзя журналу, мало-мальски понимающему свою общественную обязанность, стоять своими серьезными статьями на высшем уровне европейских знаний, а беллетристикой опускаться в гущу и подонки обскурантизма. Что это терпится русской публикой, что это иногда выгодно в денежном отношении – не оправдание, ибо мы спросим: где же предел литературной продажности?
Нам теперь именно нужно оправдание молодого, подрастающего, а частью служащего уже обществу поколения от комьев грязи, упреков и клевет, которые без меры бросались в него литературой. Какой честный человек не знает, что никаких Волоховых нет на Волге, ни на всякой другой реке и во всякой другой местности? Г. Гончаров нашел Волохова в идеальной «Малиновке», – или как она там зовется, – лежащей в идеальной степи; может быть, в идеальном Брынском лесу он найдет что-нибудь и похуже, а в идеальном Нерчинском руднике – и еще того хуже; но только что из этого? Неужели рассудительно тратить свой талант на идеализацию вымышленных и несуществующих явлений, усиливающих рознь поколений, возбуждающих в обществе тревожное состояние, разжигающих недоверчивость ко всему молодому, честно борющемуся со всеми трудностями и препятствиями жизни? Г. Гончаров, пребывая в Петербурге, направил телескоп на какую-то отдаленную Малиновку, тогда как у него под глазами совершаются иные сцены, просятся под перо иные явления глубоко назидательного смысла. У него пред глазами учащаяся молодежь, силы, пропадающие в борьбе с нуждой, железная энергия, разбивающаяся о несокрушимые единолично препятствия. У него перед глазами девушки, не кисейные идеалистки, а честные труженицы, тоже губящие молодость и силы в борьбе с невыгодно сложившейся жизнью. У него перед глазами крупные социальные явления, ожидающие талантливого пера и обобщения, а он тратит свои силы на десятилетнее измышление клубничных сцен и поет нам, голодным людям, про обманутую любовь, поучает нас в теории срочной и бессрочной любви, точно это для нас вопрос первой важности.
Август 1869 г.
Примечания
Николай Васильевич Шелгунов (1824–1891) – один из крупнейших русских публицистов, видный критик и общественный деятель революционно-демократического направления, продолжавший традиции Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, верным и последовательным учеником которых он был. Н. В. Шелгунов вместе с М. И. Михайловым был автором знаменитой революционной прокламации «К молодому поколению». Он неоднократно подвергался репрессиям со стороны царского правительства.
Как литературный критик и публицист Н. В. Шелгунов выступал в основном в журналах «Русское слово» и «Дело», отличавшихся прогрессивным, демократическим направлением.
Статья «Талантливая бесталанность», посвященная критическому анализу романа И. А. Гончарова «Обрыв», была впервые напечатана в № 8 журнала «Дело» за 1869 год. Это одна из наиболее ярких литературно-критических работ Шелгунова. Многих читателей привлекали и привлекают в статье революционно-демократический пафос и боевой темперамент критика, его горячее стремление отстоять чистоту нравственно-интеллектуального облика прогрессивной, передовой молодежи. Основное внимание критика сосредоточено на анализе образа Марка Волохова, в котором Шелгунов убедительно раскрывает грубую и ядовитую консервативную тенденциозность автора. Однако в пылу полемики Шелгунов несомненно преувеличил значение образа Марка Волохова в художественно-образной структуре романа, что повлекло за собой явную прямолинейность и односторонность суждений по некоторым другим сторонам творчества Гончарова. Уже в самом заглавии статьи видно стремление Шелгунова диалектически подойти к произведениям Гончарова. Однако именно этой диалектичности и не хватает в анализе Шелгунова, что приводит не столько к объективному отражению противоречий в творчестве Гончарова, сколько к противоречиям в самом анализе. Шелгунов признает значение объективного содержания художественных произведений, которое может сказываться помимо субъективных намерений писателя, но останавливается он в своем анализе «Обрыва» лишь на субъективном, предвзятом, ошибочном. В этом прежде всего и сказалась односторонность критического анализа Шелгунова. Нельзя признать вполне правильным и толкование Шелгуновым отзыва В. Г. Белинского о Гончарове в том плане, что якобы Белинский отрицал в нем способность к художественному оформлению сознательной мысли, что составляет сущность таланта, и отмечал его как художника «чистого искусства». На самом деле Белинский вовсе не отрицал наличия субъективного элемента и сознательной мысли в творчестве Гончарова, а лишь указывал на неорганичность для таланта этого писателя публицистической манеры повествования и публицистических форм мышления, в которых себя прекрасно чувствовал талант Герцена. Нельзя признать правильным и то, что Шелгунов по существу игнорирует крупнейшее произведение Гончарова – его роман «Обломов», так ничего не говорит о нем в своих рассуждениях об эволюции творчества Гончарова. Однако, несмотря на некоторую односторонность, прямолинейность в суждениях или противоречивость, статья Шелгунова является драгоценным свидетельством литературной борьбы, содержит немало правильных мыслей о содержании романа «Обрыв» и интересных суждений по общим вопросам теории литературы, например, о сущности и природе художественного таланта, об идейности и о воспитательном значении литературы, о прекрасном и т. д.
Примечания
1
Статья Н. В. Шелгунова «Талантливая бесталанность» была впервые напечатана в № 8 журнала «Дело» за 1869 год и вошла во второй том его Собрания сочинений. Здесь воспроизводится по тексту этого издания.
2
См. отрывок из статьи В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» в настоящем сборнике.
3
Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – философ-идеалист, реакционный публицист и критик, представитель «почвеннического направления», сотрудник «Времени» и «Эпохи».
4
Цитата из конца второй части «Обрыва» (гл. XXII).
5
Здесь Шелгунов глубоко ошибается. Его мнение опровергается в частности воспоминаниями современников первого появления романа «Обыкновенная история». См., например, высказывание Скабичевского, приведенное нами в примечаниях к его статье «Старая правда» в настоящем сборнике.
6
Ср. со статьей Скабичевского, где высказывается прямо противоположное мнение.
7
Шелгунов произвольно толкует высказывание Белинского.
8
Незрелая рукопись, Семь смертных грехов, Мертвый осел. – фр.
9
Довольно, кузен! – фр.
10
Такое понимание таланта в корне противоречит тому, которое Шелгунов развивал в начале статьи.
11
Милль Джон-Стюарт (1806–1873) – английский буржуазный экономист, философ-позитивист.
12
Ляйель Чарльз (1797–1875) – английский естествоиспытатель; один из создателей современной геологии.
13
Бокль Генри-Томас (1821–1862) – английский либерально-буржуазный историк и социолог-позитивист, автор «Истории цивилизации в Англии», пользовавшейся большой популярностью в России 60-х годов XIX века.
14
Конт Огюст (1798–1857) – французский философ и социолог, позитивист.
15
Марлинский – литературный псевдоним А. А. Бестужева (1797–1837), популярного в 20-х годах XIX века писателя и декабриста.
16
Флогистон – в XVIII в. ненаучная теория «огненной материи», якобы находящейся во всех горючих веществах.
17
Сюлли Максимильен (1559–1641) – крупный французский политический деятель и экономист XVII века.
18
Вобан Себастиан (1633–1707) – французский полководец.
19
Валленштейн Альбрехт (1583–1634) – знаменитый германский полководец.
20
Монтекулли (1609–1681) – австрийский полководец. No
21
Сильвестр – один из виднейших деятелей эпохи Ивана Грозного, которому приписывалось составление «Домостроя».
22
Эразм Роттердамский (1466–1536) – известный немецкий писатель-гуманист. Автор крупнейшего сатирического произведения эпохи Возрождения «Письма темных людей».
23
Линней Карл (1707–1778) – шведский естествоиспытатель, создатель систематики растительного и животного мира.
24
Шатриан Александр (1826–1890) – известный французский писатель, автор (совместно с Эмилем Эркманом) ряда социальных и исторических романов.
25
Луве-де-Кувре Жан-Батист (1760–1797) – французский писатель, автор ряда бульварных романов.