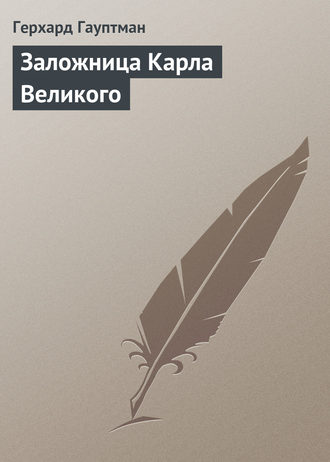 полная версия
полная версияЗаложница Карла Великого
ГЕРЗУИНДА (вне себя, но твердо, несмотря на свой ужас). Нет, не сделаешь ты этого. Нет! Не сделаешь. Не назову тебе я никого, кто исполнял мою лишь волю.
КАРЛ. Так имя Рорико впишу я, графа Мэнского.
ГЕРЗУИНДА (спокойно). Впиши его. Жалеть не стану, когда слепой удар сразит слепого.
КАРЛ. Ну, хорошо. Когда спущу я свору, сама она сумеет дичь выследить. Если не хочешь всех назвать, то назови мне одного, кто был тебе дороже всех.
ГЕРЗУИНДА. Зачем? Чтоб на кресте его ты распял?
КАРЛ. С тобою повенчать – ужель такое наказанье?
ГЕРЗУИНДА (быстро, испуганно). Нет, не хочу я вместо всех лишь одного!
КАРЛ (с облегчением). Ну, значит, ты не знаешь, Герзуинда, ни многих, ни даже одного. Теперь впервые на месте кажется мне легкий пушок твой на висках. Наконец рассеялись слегка туманы злые с бедной твоей души, (все более величественно и отечески). Не проник еще ко мне твой взор из глубины. Еще душа твоя едва проснулась, и в полусвете ты ощупью идешь. Пусть воссияет свободно луч грядущей юности твоей во всей красе и ясности; тогда, в прозрачном сияньи утреннем, весна твоя распустится. Имей терпенье, Герзуинда. Кто ждать не хочет, пока на виноградной лозе нальются грозди, тот кислое вино лишь вкусит. Поверь мне, ты сама не знаешь кто ты – кто я: я ж знаю и тебя и самого себя. Знаю, и все-ж – подумай только! – все-ж руку помощи не отвращаю от тебя. Ты спросишь, почему? Магистр Алькуин считает муравьев достойными раздумья долгого и бережно несет их на соломинке издалека домой. Вот так и я. Страшусь я, что ли? Страшны мне муравьи? Ногой ступал я на целые селенья муравьев. Всех родичей твоих, весь твой народ осилил я. Так не спасаться ж бегством мне от тебя. Послушай, Герзуинда: считай своим поместье это. Здесь, в саду, ты, от земли оторванная, снова корни пустишь. Здесь медленно расти ты будешь, здесь расцветешь, созреешь на попеченьи у садовников искусных. Здесь, под защитой стен твоих, живи привольно. Будь госпожей; прислужницы тебя в убранства пышные оденут, носить ты будешь золото. И всякое веселье по твоему приказу здесь устроят. Одно лишь…
ГЕРЗУИНДА (поспешно). Должна я как цветок любимый короля в гряде стоять недвижно?
КАРЛ. Ты знаешь разве цветок любимый короля?
ГЕРЗУИНДА. Конечно. Ребенком лет семи сама сажала я с благоговеньем мальвы короля.
КАРЛ (все более благородным, чисто отеческим тоном). Теперь благоговенье чуждо твоей душе. Не будь оно так чуждо, ты почитала бы с благоговеньем – самую себя, согнала бы позор с царицы неба, отраженной в тебе как в зеркале. И трепетно б хранила чистый лик небесной матери от грешных рук и от прикосновенья нечестивых. В этом доме, Герзуинда, кипят горячие источники; из плоти грешной извлекают они отраву и очищают кровь. И здесь, в груди моей, горячий родился источник. Струи любви отцовской текут во мне неудержимо. Торопись. Очисти душу от грехов, омой все пятна, Хотя покрыта ты была б теперь грехами, все ж будет день, когда тебе скажу я – покорствуй только чистой воле моей, скажу: – пойди и покажись священникам. В тот день предстанешь светлой ты пред миром, подобно безгрешному небесному цветку, подобно лилии в руках Марии.
(Он кладет правую руку на голову Герзуинды; она целует его опущенную левую руку)
Занавес.
Действие третье
(Снова в поместьи короля вблизи Аахена; покой внутри дома с колоннами под куполом; стены и купол украшены византийской мозаикой; пол из цветного мрамора; открытые и закрытые двери ведут во внутрь дома; одна дверь ведет в сад, магистр Алькуин и граф Рорико поднимаются по нескольким ступенькам на колоннаду из покоя, расположенного ниже. Магистр Алькуин, высокий старик с благородной осанкой, у него вид ученого и в то же время поэта и светского человека; он в длинной священнической одежде)
РОРИКО. До сюда – и не дальше могу я довести тебя. По знаку ж первому, который даст привратник, я должен буду, господин магистр, удалить тебя из дома и из сада – хотя бы даже короля и не успел ты повидать.
АЛЬКУИН. Как? Даже если призван я посланием собственноручным короля?
РОРИКО. Ты призван королем?
АЛЬКУИН. Конечно, граф. Не то сидел бы мирно я за книгами моими и, чуждый любопытства, не стал бы слухам я внимать, поверь – как не внимал и до сих пор. (Слегка насмешливо) Что тут у вас за тайны? Зачем могучий Карл в засаде спрятался? Опасен путь сюда по узеньким дорожкам, через трясины, кольцом замкнувшие ваш островок и этот дом. Говорят, усилился разбой на всех дорогах, и потому наш Геркулес беде помочь бы должен был и шкуру львиную надеть на плечи, а не сидеть у прялки… Не знаю для чего.
РОРИКО. Тут, в подземельи замка, горячий бьет источник – ключ юности, как называет его король. Для пользования водами приехал Карл.
АЛЬКУИН. Ключ юности? Что этим словом называет он?
РОРИКО. Как что? источники горячие.
АЛЬКУИН. Ну да, конечно. Я понял, милый граф, – и знаю хорошо я патриарха нашего. К тому же, видел я, как пастухи – не пастыри народа, а пастухи ягнят – свои от старости похолодевшие и коченеющие ноги купали, чтоб согреть, во внутренностях молодых ягнят. И Зевс, верховный пастырь и всех богов и всех людей, от холода порой дрожал, хоть вечной молодостью одарен был. Боялся он состариться и – как ни странно – почувствовал себя опять он юным в образе быка. И я в спине стал холод ощущать. Ключ юности!.. Но если в прок идет леченье первейшему из всех людей… Пусть выберет он, наш Зевс земной, любую из своих овечек… Хотел сказать я, пусть купается в каких желает водах.
РОРИКО. Тебя призвал король – и потому садись, почтеннейший магистр. Призвал он также для доклада и Эркамбальда, канцлера. Я вижу в этом знак хороший. Иначе… врача не достает, чтоб правильно вести леченье. Я не смею ничего сказать – и не могу, и не хочу. Не в силах я понять его могучий дух и направлять его. При взгляде на него, я только – повинуюсь. Но не помолодел на вид он от купаний. Сам посмотри. Я слышу на террасе шаги его.
(Он быстро отходит вглубь. Алькуин еще раз оглядывает свою одежду и становится направо; чернокожий слуга открывает извне садовую дверь и пропускает мимо себя Карла. Король несколько бледнее чем прежде, взгляд его менее спокойный и твердый. Он выступает из полосы дневного света, которые бросает длинную тень, замечает Алькуина и вглядывается в него, держа руку вид глазами)
КАРЛ. Не могу еще я различить, кто ты.
АЛЬКУИН. А я сейчас признал того, кого не мог бы мы признать – Давида.
КАРЛ. Флакк – это ты!
АЛЬКУИН. Да, я слабый Флакк, который в руки попался воинов твоих суровых. Они, в лесу рассыпавшись, стоят на страже Цезаря, как будто в стане вражеском живет он. К счастью, пощадили они меня.
КАРЛ. Для человека и для всех людей то место – стан врагов, где человек живет и люди! (Хлопает в ладоши) Садись! По знаку калифа Гаруна-аль-Рашида из ничего блаженство рая возникает. Я ж магии не знаю. Я грубый франк и предложить могу я только вино любимое твое; к вину ж вареного и жареного. Вот все, чем после трудного пути ты можешь подкрепиться в жилище бедном поселянина.
АЛЬКУИН (смеясь). Я скромен – большего не требую.
(Двое сарацинских слуг в пестрых тюрбанах появляются и с низким поклоном Карлу целуют землю)
АЛЬКУИН (взглянув на слуг, шутливо). И с бедностью Давида я мирюсь.
КАРЛ. Гасан, хотим мы есть как боги.
(Слуги, которые поднялись, снова падают ниц, целуют землю, потом встают и уходят)
АЛЬКУИН. А все ж ты маг – как вижу!
КАРЛ. Увы – не маг я! От калифа Гаруна-аль-Рашида четырех я получил еще других рабов в подарок – совсем таких как эти; а также – как знаешь ты и должен знать, невольниц темнокожих такое же число. Совсем забыв о них вначале, теперь сюда я вздумал их призвать – и лишь тогда подарок оценил калифа. Они купанье так приготовляют, так в простыни укутывают, так тело разомнут, не дожидаясь приказаний, что ими нахвалиться я не могу. Ты думаешь изнежить могут рабы угодливые? Нет: изнеженный, таким уже родился. У меня нет этого в крови – не сделаюсь изнеженным я никогда, мой Флакк. Теперь узнай, зачем тебя призвал я. Ты родился в Нортумбрии, и ты саксонской крови?
АЛЬКУИН. Да, король Давид.
КАРЛ. Так скоро ты услышишь и увидишь в моем доме нечто тебе сродни. Об этом, впрочем, потом поговорим. Теперь мне нужен не саксонец – а брат по разуму и по значенью мне равный. Ты, Флакк, таков. Владеешь ты мечом духовным, что на земле Господь оставил. Его ты поднял – как поднял я меч светский. Ты Петр для меня – гораздо более чем римский Петр – меча хранитель и ключей. В божественном Господь тобой руководит, и в человеческом не менее того от Бога и только от Него твои сужденья. Вот почему я человека в тебе приветствую, который понимает, а не судит, который хочет жизнь прославить, а не умертвить. Когда б отбросить я хотел то, что душою овладело, как дядя мой Пиппин, ушедший в монастырь, то мне нужна была бы только пустая келья – я не искал бы друга. Ты мой друг и предан мне, мой Флакк. Послушай: приключилось со мною чудо. Люди говорят, быть может… Не знаю, что люди говорят, но чувствую, как будто из земли в меня вливаются по тысяче каналам, как в молодое дерево, живые соки. Смешно это, быть может, и странной кажется насмешкой над собственным моим рассудком деревенским и над законами календаря крестьянского. Давно уж высохший, годами отмеченный ствол, отдавший соки растеньям чужеядным, на нем живущим, опорой им служащий, чтобы по-прежнему тянуться прямо к солнцу они могли, хотя он сам уж мертвый… Вот этот старый ствол вдруг ожил! В листочках шум поднялся: Как! Старый Карл, масличное дерево засохшее, вновь жить задумал! – и не для нас… шипят… а для себя! Ну да. Быть может, стыдиться следует пред вами Карлу, лишнему на свете старику, в том, что он жив еще. Но хочет жить он – это правда.
АЛЬКУИН. Государь! Давид великий в братстве вашем рыцарском! Оно, семью дарами пламенея святого духа и высясь надо всем земным, тебя собою окружает как драгоценный камень оправа золотая… Что мы без тебя? Ты плугом владеешь так же как мечем и так же хорошо писать умеешь. На свет ты вызываешь живущее в земле, а мирно на ней живущих питаешь ты и охраняешь. Чтя небо, ты сеятель Христовой жатвы. Дитя лепечет имя Карла, еще не зная имени отца. Карл – не простое слово, а силы великой знак. Повздорят ли между собой соседи – произнеси лишь слово Карл – и распря кончена. Воюют ли народы – Карл! скажи – и восстановлен мир. Царит ли мир – раздастся слово Карл! и потемнеет небо, задрожит земля, и слово Карл! звучит угрозой тишине, войну обозначая. Вот в Византии император – кумир народа; произнеси лишь слово Карл! – и любовь к нему развеется как прах по ветру. Кто ж дерзнул бы наставником стать Карла и возвеличиться над ним?
КАРЛ. Власти ничьей я над собою не боюсь. Я слишком грубый франк – чтоб справиться со мною. Когда я здесь стою, в кольчуге и щитом вооруженный, едва ль копье чье либо в тело мне проникнет – едва ли даже кожу мне заденет. Но иногда я обнажаю душу, доверчиво покровы сняв… и уязвим тогда суровый Карл в том, что он нежного в душе таит. (Сарацинские слуги вносят накрытый стол и устанавливают его; другие держат золотые тазы и кувшины для омовения) Я был здесь одинок. Садись к столу! (Он и Алькуин садятся у стола; им льют воду на руки) Мне мило и желанно одиночество, но все ж не доставало мне друга одного. (Он поднимает кубок и пьет, чокаясь с Алькуином; наступает короткая пауза, затем Карл снова говорить) Желаешь? Я могу приятное составить за трапезой нам общество.
АЛЬКУИН (с изысканной любезностью). Когда Горация зоветь к себе Анакреон, то жду я многих наслаждений: вина и песен и – сверх того, красотку.
КАРЛ. Хвалю, язычник старый! Но постарайся решеткой плотной сердце оградить.
(Он ударяет о металлическую доску, которую держит в руках один из слуг; едва затихает звук, как прибегает Герзуинда и подходит к сидящим за столом; она в легком фантастическом одеянии, волосы распущены)
ГЕРЗУИНДА (удивленно смотрит на сидящих за столом). Едите вы? Зачем?
КАРЛ. Зачем? Не должен разве человек питаться?
ГЕРЗУИНДА. Противно мне глядеть, как люди пищу принимают!
КАРЛ. Люди? Какие же мы люди?
ГЕРЗУИНДА. А разве вы большее чем все?
АЛЬКУИН. Про одного из нас (указывая на Карла) неверно судишь ты.
КАРЛ. Все для неё мужчины только люди – и к сожаленью, все люди для вся мужчины.
ГЕРЗУИНДА. Что ж большее они? Я не люблю людей.
АЛЬКУИН. За исключением, надеюсь, короля? За исключением, надеюсь, Карла, любимого и чтимого всем миром.
КАРЛ. Нет исключений для неё, клянусь! Будь птицей я, умей красиво петь, тогда другое дело… или котенком еще слепым мяукал бы, тогда, быть может, на любовь надеяться я мог и на вниманье нежное!
ГЕРЗУИНДА (оглядывая стол с желаньем полакомиться). А для меня нет ничего у вас?
КАРЛ (предлагая ей кубок). Вот вино.
ГЕРЗУИНДА. Нет. Противно!
(Отталкивает кубок)
КАРЛ. Водой она питается, на апельсинных настоенной цветах, и – самое большое – настоем лепестков от розы, замороженным в снегу. Напиток этот ей готовят темнокожие. Мы для неё откармливаем также ангорских коз. Пьет как младенец козье молоко она.
АЛЬКУИН. Амброзией и нектаром питаешь ты юность чистую свою? Богам Олимпа хочешь быть подобной. И, точно, ты как будто не земная.
КАРЛ. Нет, плоть её земная.
ГЕРЗУИНДА. Конечно. Почитайте меня за что хотите – только не за святую. Мне все милей, чем святость. Я пью и ем и делаю все то, чего хочу сама, а не другие. За то пусть и другие, как и я, свои желанья исполняют, а не чужия.
КАРЛ. А если захотят другие от тебя… того, что справедливо и хорошо?
ГЕРЗУИНДА. То я, конечно, не покорюсь.
КАРЛ. Мой мудрый Флакк, попробуй, поможет ли твой долгий опыт и знанье, прилежно скопленное, и мудрость, обретенная тобою, ненасытным в работе и в исканьи света… Попробуй, помогут ли свободных семь искусств, которыми владеешь ты, хотя б настолько, чтобы не быть беспомощным как школьник перед ребенком Герзуиндой? Мне беспомощность мою она давно уж показала.
АЛЬКУИН. Что может сделать Флакк, когда сам Август, хотя он лаврами увенчан Геркулеса, себя бессильным почитает. Но все же готов я попытаться.
КАРЛ. Поговори с ней. Пусть скажет, например, тебе: что называет она грехом?
ГЕРЗУИНДА. Греха нет!
КАРЛ. Ну, а стыдливость? Спроси ее об этом.
АЛЬКУИН. Скажи мне, дева, что стыдливостью ты называешь?
ГЕРЗУИНДА (смеется про себя, потом смело). Я не веду свой род от вашей Евы и вашего Адама. Прапрародители мои с запретной яблони плодов не ели – и я не знаю, в чем добро, в чем зло.
АЛЬКУИН. Так, значит, не богоподобна ты в познании добра и зла!.. и все же из рая изгнана. Как же туда вернешься ты?
ГЕРЗУИНДА. Заботься только о себе, старик! На что нужна стыдливость? По-вашему стыдиться тела я должна – и потому гордиться только одеждою, руками сшитой. Ужели шерсть, ткань шелковичного червя, волокна льна прекраснее меня, прекрасней того, чем я дышу, чем вижу, слышу и ощущаю вкус? Когда тяжелой поступью проходят дочери твои, подобно башням из золота, из драгоценных камней – я драгоценных украшений не люблю – то неужели сами они не лучше, чем их золото и камни? Не создал разве Бог нагим мне тело? Но вам дороже платье? Скажите, я готова снять его и вам оставить взамен себя!
КАРЛ. Стой! Стой! Она способна, друг мой, это сделать.
(Герзуинда уже собиралась скинуть одежду)
Что скажешь ты, магистр?
АЛЬКУИН. Я поражен и слов не нахожу.
ГЕРЗУИНДА (сбросив длинное прозрачное покрывало, в которое она задрапировалась). Не спросите ль еще мой легкий плащ? Быть может, его ответ вам будет больше по душе, чем мой. (Бросает плащ на пол и со смехом убегает)
КАРЛ. Герзуинда!
(Она исчезла и не возвращается на зов)
Убежала! Скажи, приятен смех её тебе?
АЛЬКУИН. Однажды я подсмотрел в Ютландии, как приносили жертвы они богам своим. То было в страшную глухую ночь. Как легионы демонов из преисподней, шипел костер в лесу. Привели они лисицу с длинной гривой, двухлетнюю – не более. На закланье ее вели, и шла она, хвост волоча. Вблизи засады, из которой мы глядели, стоял недвижно голый жрец, держа на привязи лисицу обреченную. Разгорелся жертвенный костер; когда ж её коснулось пламя, лисица ноздри подняла и зарычала. Не могу я передать тот звук. В нем слышался и дикий смех, и точно плач.
КАРЛ. Ты верно понял, Флакк. Смех Герзуинды к печали ближе, чем к радости; он скрытым ужасом объят… Но что же ты не ешь, не пьешь, мой Алькуин?
АЛЬКУИН. Благодарю! Уж более шестидесяти лет я ем и пью, уверенный, что этим зла не совершаю никакого. Теперь впервые одолело сомнение меня. Я думаю, не лучше ль было бы поститься? И многое другое в моих мыслях словами вызвала она своими и существом своим.
КАРЛ. Вот видишь! Этого я и хотел, мой Флакк. Не мало переловил зверей я разных, и луком и силками, как ты знаешь – но никогда такой не попадался мне. Вот почему о нем забочусь и дорожу им. Конечно, не зверь она, и потому моя задача не укротителя. Мой долг почти отцовский. Отцом благочестивым я о душе её пекусь. Мне радостно – я это не скрываю – на этот раз единою душою управлять, а не народом целым, как всегда, и так же, как я иногда пустыни в земли превращал цветущие, так семена добра хотел бы я посеять здесь и возрастить.
АЛЬКУИН. Ну, а она свое не сеет?
КАРЛ. Конечно, сеет. Борьба за душу опасней многим, чем бой с мечем в руках. Не дремлет враг добра, враг Господа, тот, кто пустыни сушит и посылает всепожирающее пламя даже в рай. Я это знаю, и все ж мне бой с ним радостен; хочу я одолеть врага. К тому же, сам виновен я…
АЛЬКУИН. Ты, государь, разбил и покорил саксонцев, гуннов, лангобардов, аваров и баварцев… Разбил норманнов, басков. Кто б ни противился тебе, тобой был побежден. Но всякая победа легка в сравненьи с той, которую теперь ты хочешь одержать державной волей.
КАРЛ. Не доверяешь моей силе?
АЛЬКУИН. Не подобает мне сомневаться. Но все же Карл останется самим собой, когда б он даже на этот раз разбит был.
КАРЛ (поднимается, с мрачным видом). Ты полагаешь, что из одной лохани я стану есть с собаками паршивыми?
АЛЬКУИН (испуганно). Срази меня небесный гром, когда такая мысль могла б мне б голову прийти?
КАРЛ. Ну, хорошо. Оставь!
(Карл ходит несколько раз по комнате взад и вперед, вспышка гнева улеглась, снова входит Рорико)
Что, Рорико?
РОРИКО. Тут канцлер Эркамбальд.
КАРЛ. Не спешно это. Может подождать старик безмозглый!
РОРИКО. Он следует за мной.
КАРЛ (Алькуину). Ну, так тебя я попрошу – так как прервали нашу трапезу – избавь себя от встречи с ворчуном.
(Он снимает кольцо с пальца и дает его Алькуину)
Позабавь пока свой ум. Вот тебе кольцо – игрушка, не более того. Распадается оно на семь колечек. Из семи составь опять одно. И вот что помни, когда ты засмеешься: то, из-за чего смеешься, такая же игрушка для меня, как эта. Такая же – не меньше, правда, но и не больше.
(Входит Эркамбадьд. Последние слова произнесены при нем. Алькуин кланяется Карлу и уходит в сад. Рорико тоже уходит. Карл медленно шагает взад и вперед по комнате, потом останавливается и смотрит вопросительно на Эркамбальда)
ЭРКАМБАЛЬД. Пришел я, повинуясь приказу твоему.
КАРЛ. Пришел ты… по чьему приказу?.. почему пришел?
ЭРКАМБАЛЬД (очень бледный). Я говорю, что призван я тобой.
КАРЛ. Ах, да. Что с тем саксовцем-Беннитом – так, кажется, зовут его? Вернули, наконец, ему несправедливо отнятые земли?
ЭРКАМБАЛЬД (мрачно). Нет!
КАРЛ. Почему?
ЭРКАМБАЛЬД. Вторичное дознанье подтвердило его и Ассига вину. Вот протокол дознанья – а вот решение суда. Печати только не достает.
КАРЛ. Покажи!
(Берет бумагу и разрывает ее)
Вот так! Вы вздумали наперекор мне поступать?
ЭРКАМБАЛЬД. Что, ж ты приказываешь?
КАРЛ. Ничего.
ЭРКАМБАЛЬД. Прости. Вот это и печалит всех верных подданных твоих.
КАРЛ. Печалит вас, что не даю я приказаний? А сами делать вы не можете, что должно. Творите правое без приказаний. Ужель я должен неустанно, пока язык не онемеет, приказы отдавать? Попробуйте, раскрыв широко рты ленивые, кричать без передышки: вот это сделать так, вот это этак! И вот еще! И это! Покричите так не жизнь целую, а только год – тогда поймете, что мог устать и я. Что ж приказать я должен? Говори!
ЭРКАМБАЛЬД. бесчисленные письма ждут ответа.
КАРЛ. От кого? Сначала скажи о самых важных. Назови мне имена.
ЭРКАМБАЛЬД. Вот письмо от сына твоего держанного, Людовика, из Аквитании, вот от Петра из Пизы. Вот от Штурма, аббата фульдского письмо, вот письма епископов, из Кельна, Майнца, Реймса, из Страсбурга. От Гильдигерна из Базеля. Из Безансона от Рихвина и множество других. Из Рима также письма важные пришли.
КАРЛ. Почему наплыв такой вдруг писем?
ЭРКАМБАЛЬД. Прочти и сам поймешь.
КАРЛ. Передай что пишут.
ЭРКАМБАЛЬД. Остановилась жизнь в государстве, и застой в делах важнейших к последствиям привел тяжелым, государь. К тому же странный, очень странный слух распространился по всей стране, проникнув и к врагам, к Альфонсу галицийскому и к нашему союзнику в Астурию. Он хотя ему не верит, но в письме своем упоминает о том, что слышал.
КАРЛ. Ну, так оставь. Что дальше?
ЭРКАМБАЛЬД. Вот это, государь, письмо случайно в руки мне попало. Оно от сына твоего, Пиппина, и вызвано тем слухом темным. Об этом сын твой пишет герцогу Гельмеру, которого ты милостями осыпал.
КАРЛ. Покажи!
ЭРКАМБАЛЬД. Раскрывает письмо коварный заговор и, к сожаленью, видно, что принц не отстранился от него – хотя и странно это.
КАРЛ (прочтя письмо). Сын потаскушки! Шут презренный! Безмозглый негодяй! Ты пишешь о грязной твари, которая забрала в руки хромого, расслабленного короля, и за нос его водит. И это говоришь ты, Пиппин, которого я прижил от служанки, ко мне в палатку прибежавшей, которого, когда родился он, из яслей я вынул как Спасителя, а не втоптал, как нужно было, в грязь. и вот теперь горбатый хочет хромого на земь повалить! Из-за такого вздора напрасно ты трудился приезжать. (После короткого молчания, спокойно) Пусть где угодно сор подметают эти господа – усердствуя, пока метлы не обломают… где угодно, но не здесь, не у моих дверей! Не то я сам метлою замахнусь на них, а сила у меня такая же, как прежде. Герзуинда благородной крови, и я решил ей дать супруга. Быть может, выберу я молодого Фридугиса, назначив его ландграфом куда-нибудь в Саксонию. Он юноша способный.
ЭРКАМБАЛЬД (невольно вскрикнув). Помилуй Бог! Не делай этого!
КАРЛ. Чего?
ЭРКАМБАЛЬД. На Герзуинде не предлагай ему жениться.
КАРЛ. Почему?
ЭРКАМБАЛЬД. Да потому, что он убьет себя, когда узнает о том, что ты задумал.
КАРЛ. Убьет себя?
ЭРКАМБАЛЬД. Да, государь.
КАРЛ. От милостей моих он в бегство обратится? И предпочтет он душу дьяволу предать?
ЭРКАМБАЛЬД. Да, государь.
КАРЛ. Ответ короткий дополняешь ты видом хмурым. Ужель нет ни одной графини, иль маркграфини, которая в слепом угаре юности не совершила б ничего столь грешного и даже худшего, чем Герзуинда? К тому ж теперь, наветам пищи не давая, живет уединенно и целомудренно она.
ЭРКАМБАЛЬД. «Уединенно, целомудренно»! Нет, не могу молчать! Но как начать? Маркграфиня, хотя бы наиболее из всех в дни юности грешившая – такие случаи бывали, – нет в этом столь неслыханного, как то, в чем согрешила Герзуинда – и страшен долг мой в этот час! Я часто был судьей, но не был ни разу палачем. Мне страшно. Я от ужаса дрожу.
КАРЛ. Но силен я – и не дрожу. Скорей! Есть у тебя, что нужно придушить? – схвати сейчас за горло!
ЭРКАМБАЛЬД (плача, почти крича). Прикажи молчать мне, король Карл!
КАРЛ. Теперь, когда я жду ответа, ты слов связать не можешь!
ЭРКАМБАЛЬД. Да истребит Господь всех, кто тебя обманет!
КАРЛ. Нет, милосерден Бог и этого не сделает. Он с Ноем заключил союз и обещал, чтоб не было вторичного потопа.
ЭРКАМБАЛЬД. Потоп уж близок… близок! Дрожат колени, государь… Вели молчать.
КАРЛ. То, от чего дрожит мой канцлер, меня не свалит с ног!
ЭРКАМБАЛЬД. Горе! Позор! Разврат и преступленье!
КАРЛ. Конечно, есть все это и всегда бывало.
ЭРКАМБАЛЬД. Но никогда так близко от твоего престола.
КАРЛ. Ясно говори!
ЭРКАМБАЛЬД. Никогда так пурпур королевский не пятнало…
КАРЛ. Еще яснее говори!
ЭРКАМБАЛЬД. Никто, от женщины рожденный, тебя позором таким не окружал.
КАРЛ. Как кто?








