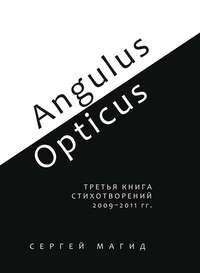Полная версия
Dichtung und Wildheit. Комментарий к стихотворениям 1963–1990 гг.
Обращение Боба Хрусталенко ко мне это одновременно и издёвка и комплимент. Комплимент состоит в том, что, с одной стороны, «стропило» это базовая балка, которая держит крышу и назвать так кого-нибудь, тем более молодого, значит проявить высшую степень уважения, а, с другой стороны, есть в этом слове и образе его длина и протяженность, в чём слышится безусловный и беспощадный намёк на мою общую левофланговую короткость. Своей безупречной точностью солдатские клички восхищают меня как филолога, решившего прошлой ночью стать скрибером. Обижаться тут не на что. Иное дело, что «стропило» обычно «напрягается», держа крышу, а это вредно и опасно. Напрягаться стропило не должно. А то треснет пополам от усердия. Держать не напрягаясь – вот задача стропил.
Сам того не подозревая, Боб Хрусталенко произносит формулу дзэнского «недеяния» и раннехристианского «неделания», но это мне станет известно еще через несколько лет, когда на гражданке моё «я» снова будет искать способ раскрыться, подобно цветку, навстречу неполитической, несоциальной, несоветской, несоциалистической, некапиталистической, нечеловеческой энергии космоса, которая будет тогда являться мне то в виде Выхода из течения Реки, то в виде Большой и Малой колесницы, то в виде Золотого срединного пути, то в виде толтекского Орла и нагуаля.
Боб протягивает мне завтрак, мой рубон, мою пайку, – четыре ломтя хлеба, квадратик масла, два куска сахара.
Боб протягивает мне свою фляжку с еще теплым чаем и говорит «Прополощи горло, Стропило».
Так моё безымянное, безвестное, никому не нужное молодое «я» обретает ИМЯ. Ещё не отдаю себе в этом отчёт, ещё не сознаю, что до самого дембеля (а, может, и дальше?) мне придётся теперь что-то держать над собой, оправдывая ИМЯ. Иначе его отменят и дадут другое, презрительное и позорное.
Пока же, шекспировским гробовщиком стоя в своей яме, опершись о штыковую лопату с инвентарным номером 66, принимаю из рук Боба Хрусталенко жратву и флягу, и пока Боб, стоя надо мной и покуривая махорочную «Приму», простыми гусь-хрустальными словами рассуждает о жизни, смерти и бедном Йорике, сжираю аки рыкающий лев свой законный, казённый рубон (спасибо министру обороны маршалу Малиновскому!) и как рыкающий лев глотаю чай из хрусталёвской фляги. Нет, есть всё-таки местами над головой штернише химмель и есть в некоторых людских экземплярах, не исключая и хохлов, моралише гезетц!
Вот тут, как в плохом детском спектакле про Иванушку-дурачка и Кощея Бессмертного, как раз тогда, когда я протягиваю Бобу Хрусталенко его опустевшую флягу из своего рва, на свет Божий из дверей кухни вываливается Вовк, утомленный тёплой едой и долгим трёпом с поварами.
Он вываливается на свет Божий,
он долго стоит на крыльце,
огромный даже издали,
широкоплечий,
узкобёдрый,
в униформе цвета здорового свежего говна,
пригнанной впритык ко всем выпуклостям и впадинам его корпуса,
тщательно выглаженной,
без единой складочки и пятнышка,
с ослепительно белым подворотничком в целлулоидном пакете по верху воротника гимнастерки, чтобы не перешивать его каждое утро,
широкими алыми поперечными лычками на погонах с плоскими крышками мыльниц внутри, чтобы лежали на плечах как влитые прямоугольники и не топорщились,
в сверкающих хромовых сапогах, высота каблука 26 мм,
с пилоткой за ремнем с золотозвездой бляхой, ослепительно начищенной асидолом на бархотке,
он медленно натягивает черные кожаные перчатки,
отражая молодой крепкой лысиной холодное осеннее солнце,
не торопясь оглядывает свои руки в черной коже,
и двигает к нам,
прямой и гордый как грот-мачта при свежем бризе,
неся вместо паруса чуть выпяченный мускулистый торс с впалым животом,
орёл ракетных войск,
жеребец Малиновского,
ходок и ёбарь,
надёжа всех нещасных баб из окружающих военный городок псковских колхозов, совхозов, коровников и свиноферм,
верный муж своей супруги, регулярно отъезжающий к ней в отпуск для удовлетворения последней,
бык,
козёл,
животное,
сперматозавр с непреходящим густым запахом мужского тела, который не способен перебить никакой шипр и никакой табак,
Господин Третий Год,
отличник боевой и политической подготовки,
зампарторга дивизиона от срочнослужащих,
старший сержант Вовк, Владимир Тарасович,
комендант Бухенвальда.
«Ублажаете молодого, ефрейтор Хрусталенко?»
«Так точно, товарищ старший сержант», равнодушно отвечает Боб.
Вовк смотрит на меня сверху.
Я смотрю на него снизу.
Опершись на штыковую лопату, инвентарный номер 66.
Хорошо бы этой вот лопатой да врезать старшему сержанту по его тесно обтянутому первичному половому признаку, но Хайдеггер не позволяет. Суета, говорит. Тщетная забота о неподлинном.
И действительно, – что мне вовков первичный признак? Что я ему?
Но Вовк, видимо, решает все же основательно меня на него посадить.
«Хотите помочь молодому, Хрусталенко?», добродушно спрашивает он.
У Второго Года, естественно, свои незыблемые привилегии, к нему можно обращаться уже просто по фамилии, подчеркивая тем самым его существование, тогда как мы все просто безымянные молодые.
«Никак нет, товарищ сержант», равнодушно отвечает Второй Год Хрусталенко, как бы невзначай опуская эпитет «старший».
«Думаю, вы правы», слегка утомленно говорит тираниссимо минималиссимо, «помочь молодому в том, что никто из людей срать с ним на одном гектаре не садится, люди не могут, а самостоятельно молодой помочь себе не хочет. Это проблема. Как вы считаете, Хрусталенко?»
«Затрудняюсь ответить, товарищ сержант», мрачновато говорит Хрусталенко, опять опуская эпитет.
Второй Год, естественно, может уже себе позволить такую вольность, называя старшего сержанта просто сержантом. Это разрешено традицией. Это нормально. Никто здесь ничего не нарушает. Но Второй Год это всего лишь Второй Год. Он не господин. Не он здесь господин.
«Тогда давайте эту проблему присыпем песочком», неожиданно оживляется Вовк и мне окончательно становится ясно, что на свой первичный он будет меня сейчас сажать, как на турецкий кол.
«Не понял», совсем мрачно говорит Хрусталенко.
Спятил Хрусталь.
«Дай ему лопату», помолчав секунду, говорит Вовк.
Протягиваю наверх Хрусталенко лопату.
«Засыпайте, ефрейтор Хрусталенко».
Хрусталь берет лопату и молча смотрит на Вовка.
«Закапывайте, закапывайте его, ефрейтор Хрусталенко. Что не ясно́?»
Ну это уже беспредел.
«Не буду», говорит Боб.
Совсем, совсем спятил Хрусталь. А Вовк спятил уже давно. Но я-то ещё не спятил. Хватаюсь за край ямы и рывком двигаю тело наверх, наружу из этого гроба.
«Куда?!» вдруг орёт Вовк и пена выступает у него в уголке губ. «Пошёл в яму, говно!»
И тело моё вместе с моим элитарным экзистенциальным космическим «я» мгновенно сваливается назад в свой гроб, покорно, послушно сваливается в свою тесную, жутко пахнущую сырой смертной землёй традиционную яму.
«Закапывай его!» кричит Вовк ефрейтору.
У Боба Хрусталенко кривятся губы, он пятится от Вовка, он опускает голову и не глядя на меня, хватает на лопату горсть земли из выброшенной мной снизу кучи. И сыпет ее аккуратно вниз, мимо моих сапог, на дно ямы. Наши глаза встречаются. В моих, по-видимому, мольба червяка, в его глазах – растерянность, но эта растерянность быстро тает и начинат сменяться чем-то совсем другим, мне ещё непонятным.
«Ладно, сержант», говорит Боб неожиданно игривым тоном, «закопаем молодого по шею, а дальше что?»
«Как это что?» расслабляется Вовк и хохочет от пуза. «Как что? Пустим по нему асфальтовый каток. Со скоростью один миллиметр в час».
Всё видит Бог!
Они закапывают меня там, недалеко от кухни.
Вовк с отвращением, Боб Хрусталенко с любопытством.
Потом они стоят над моей молчащей головой, курят и говорят о погоде.
Иногда Вовк рассеянно стряхивает на меня пепел.
Вокруг могилы постепенно собираются люди.
Они тоже курят и тихо беседуют, поглядывая на меня, указывая на меня пальцами друг другу и решая что-то важное.
Всё это Господин Третий Год. Молодых к могиле не подпускают.
Тело моё немеет под холодным песком.
Жива только голова.
Она смотрит прямо перед собой.
Перед собой она видит сапоги.
Потом эти сапоги растаптывают брошенные на землю окурки и старший сержант Вовк приказывает ефрейтору Хрусталенко откопать меня, вытащить из ямы и выбросить на помойку за кухней.
Эпилог в третьем лице за отсутствием первого
КориоланПривет, отцы!Ваш воин возвратился,к отечеству любовью зараженныйне более,чем в первый день похода…(Шекспир. Кориолан. Акт V, Сцена 6)Вечером того же ноябрьского дня 1966 года от Рождества Христова в каптёрке батареи связи второго дивизиона 1133-й ракетной бригады Сухопутных войск СССР собралось вече Господина Третьего Года.
На вече было высказано порицание болярину Вовку, нарушившему понятия: он принял за убогого мужика и фрайера одного из иногда встречающихся в опчестве юродивых, но полезных жидов.
Одновременно, за сим юродивым, получившим инициационное имя «Стропило», были признаны права «углового», – нейтрала-наблюдателя, которого запрещалось использовать и употреблять и который получал право выступать третейским судьей на проходящих в чистом казарменном сортире поединках, актах суровой «присяги» молодых, судах чести, публичных песенно-гитарных турнирах и прочих сходках первобытного характера.
С того вечера Стропило стал угловым.
* * *Легат 1133-го ордена Сципиона второй степени легиона полковник Нукер был этом фактом крайне недоволен, – «Кто там у вас во второй когорте замполит, капитан Жемчужный или этот Стропило?» спрашивал он примуса когорты подполковника Фусенко (кличка Кобёр, – в своих сверкающих на солнце очках и с палочно прямой спиной он и впрямь напоминал самца кобры).
Поэтому на склоне августа 1968 г. оба славных римлянина отправили Стропило (и ещё девять командировочных) от греха подальше – служить Империи на дальний германский лимес, в разложившийся западнославянский гарнизон на краю капиталистической Пустыни Тартари.
На краю пустыни Стропило, оказавшийся в роли римского легионера и цивилизатора, от скуки и отвращения практиковал медитационную технику, распространенную среди местных варваров. Они определяли её как способность всегда, везде и при любых обстоятельствах «изображать мёртвого жука»[13].
Благодаря этому, Стропило выжил как среди восточных, так и среди западных славян, а когда живым, но контуженным в голову, вернулся наконец в родную ракетную бригаду, то встретил там племя младое, незнакомое, похожее на инопланетян и переходившее на двухлетний срок службы.
Укрывшись от суеты мира в пожарной центурии, Стропило вывесил на своём продавленном ложе табличку «по тревоге не кантовать, выносить вместе с койкой» и перешел на положение ветерана.
Так он дожил до Пришествия Дембеля нашего, посетившего сию обитель в 1969 году, но кроме тех, кого он непосредственно посетил, никем не замеченного. Как это и бывает всегда с явлением Божьим.
В пожарной центурии Стропило непрерывно писал. Что Бог на душу положит. Но душа была каменной.
Здесь кончается сага о Вовке, пусть будет ему земля натёртым до блеска котовых яиц паркетом.
IV. Скрибер
…Тристан рыдаетВ расщелине у драгоценных плит:«О, для того-ль Изольды сердцеЛежало на моей груди,Чтобы она…»И смолкло все. Как лепка рук умелых, Тристан в расщелине лежит…Поэт кричит, окаменев.Вагинов. Отшельники1924Ну, где он, Тристан? – Прах.Изольды костяк? – Пыль.Героя несёт в гитанахБольной мочевой пузырь.Сизиф? – Тот ещё жив.За камнем пошёл внизТворить свой дурацкий миф.Т.е. чей-то каприз.Стропило. Грядущего лик – дик1970Дитя
Поэт – дитя и ему нужна похвала взрослых.
Конечно, поэта можно не только гладить по голове, но и бить по ней. Но, что бы там ни было, поэту необходимо внимание, – а в какой форме, хвалы или хулы, это уже не важно.
«Взрослый» для поэта – это любой, кто читает его стихи. И поэт ждет, когда «взрослый» кончит читать и что-нибудь скажет. Или, еще лучше, напишет.
Так Мандельштам ждал слов Сальери-Рудакова и тот снисходил, и то ругал, то похваливал.
Так Мандельштам наскакивал на дирижера Лео Морицевича Гинзбурга, читая ему стихи и крича: «Так? да? да? да. Так? Вы правы. Так?», а дирижер не знал, что ответить и «жался», заикаясь.
За 8 лет существования в Клубе-81 я удостоился похвал сразу трёх мэтров самиздата и помню их до сего дня. Вот они, согласно расположению мэтров в алфавитном порядке:
Драгомощенко: «Эти стихи защищены!» (о книге стихов «ниже уровня воздуха»)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Dichtung und Wildheit (нем.) – Поэзия и Варварство; (местоимение «я», от лица которого написан этот Комментарий, не является прямым отражением личности автора)
2
Какая Россия нам нужна? // Демократия и мы. 1990. № 14.
3
Tomáš Halík. Stromu zbývá naděje. Praha 2009.
4
Письмо к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 г., перевод с французского.
5
Современный экзистенциализм. Критические очерки // Редакционная коллегия: Л. Н. Митрохин, А. Г. Мысливченко, Т. И. Ойзерман. М.: «Мысль», 1966.
6
Sorge (нем.) – (зд. ненужная) забота.
7
Grenzsituation (нем.) – пограничная ситуация.
8
Amor fati (лат.) – любовь к (своей) судьбе.
9
Аббаньяно, Никола (1901, Салерно – 1990, Милан), итальянский философ-экзистенциалист
10
Шестов, Лев (1866, Киев – 1938, Париж), русский философ-экзистенциалист. Главный труд Шестова – медитативный трактат «Апофеоз беспочвенности».
11
Sein-zum-Tode (нем.) – бытие-к-смерти.
12
Имеется в виду категорический императив Канта: sternische Himmel iiber uns und moralische Gesetz in uns – «звёздное небо над нами и нравственный закон в нас».
13
dělat mrtvého brouka (чешск.) – т. е. играть роль совершенно постороннего, ни к чему не причастной дохлой рыбы.