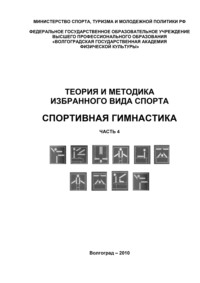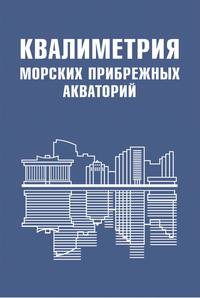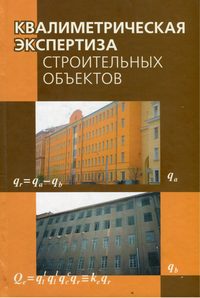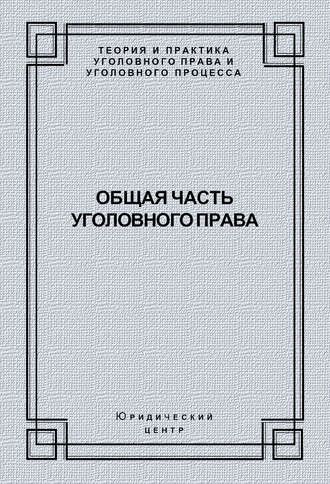
Полная версия
Общая часть уголовного права
Детально проанализировав существующие в теории взгляды, мы пришли к выводу о том, что термином «уголовная политика» может обозначаться лишь такое направление деятельности государства в сфере борьбы с преступностью, которое основано на применении средств и методов уголовного права, уголовно-правового арсенала.
Объясним, почему.
Будучи социальным явлением, преступность выступает объектом самых различных направлений оказываемого на нее государственного и общественного воздействия, однако это не позволяет характеризовать все направления такого воздействия при помощи термина «уголовный». Данный термин, на наш взгляд, призван отражать не объект уголовной политики, а средства и методы, используемые в процессе целенаправленной охраны интересов личности, общества и государства от преступных посягательств. Поэтому, вопреки распространенному мнению, мы считаем, что основной акцент в выражении «уголовная политика» делается не на преступности, а на том принудительном начале, которое составляет основу целенаправленной – уголовно-правовой – борьбы государства с данным видом антисоциального поведения.
Что касается других векторов специализированного правового противодействия преступности (уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального, криминологического), то их предназначение носит вторичный по отношению к уголовному праву характер. Они воздействуют на преступность опосредованно, либо обеспечивая реализацию мер уголовно-правового принуждения, либо предупреждая преступность, содержание и масштабы которой определяются уголовным правом. Сказанное позволяет утверждать, что употребление термина «уголовный» применительно к политике борьбы с преступностью уголовно-процессуальными, уголовно-исполнительными и криминологическими средствами, как минимум, нецелесообразно, а по большому счету – неправильно. Кроме того, абсолютно права Н. А. Лопашенко, когда (выходя за пределы материального уголовного права и вставая на защиту процессуалистов и пенитенциаристов) говорит о недопустимости отрицания самостоятельности соответствующих правовых и законодательных отраслей, происходящего при обозначении словосочетанием «уголовная политика» совокупности различных политик. Данные отрасли, хотя и зависят от уголовного права, все же «имеют свои собственные предметы и методы правового регулирования».[215]
Существует еще одно обстоятельство, не позволяющее использовать понятие «уголовная политика» в расширенном значении. По нашему мнению, государственная политика в сфере борьбы с преступностью включает в себя не только специализированные меры уголовно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и криминологического характера,[216] но и иные юридические (гражданско-правовые, административно-правовые и др.), а при определенных условиях и социальные меры противодействия преступности.[217]
Поэтому употребление в рассматриваемом случае понятия «уголовная политика» «неоправданно приводит к ограничению политики борьбы с преступностью лишь мерами уголовно-правового характера…Уголовная политика является… определяющей, но не единственной составной частью политики борьбы с преступностью».[218]
Подведем итог. Преступность, представляющая собой наиболее опасный вид антисоциального поведения, вынуждает государство встать на путь применения самых суровых мер реагирования, приоритетная роль в деле создания, регламентации и реализации которых отведена уголовному праву: именно оно на законодательном уровне призвано обеспечивать охрану личности, общества и государства от преступных посягательств. Сущность уголовной политики, ее самостоятельность определяются управлением как раз теми процессами противодействия преступности, основу которых составляет использование средств и методов уголовно-правового характера. В принципе, согласно классическому изречению Г. М. Миньковского, можно было бы «договориться» обозначать термином «уголовная политика» любой уровень борьбы с преступностью,[219] но расширение уголовно-политического арсенала за счет иных, не уголовно-правовых, средств воздействия на преступность ослабляет принудительное начало уголовной политики, искажает ее природу, лишает известной автономности.
Следует также отметить, что мы не разделяем существующее в науке мнение о неточности, некорректности термина «уголовная политика» и необходимости его замены «политикой уголовно-правовой».[220] Буквальное толкование, к которому предлагает обратиться В. А. Номоконов, – дело хорошее, но при определенных обстоятельствах способное довести до абсурда. Проведя параллель, можно, например, сделать вывод, что «уголовная ответственность» буквально означает «преступную», криминальную ответственность, а «уголовное право» – «преступное», криминальное право. На наш взгляд, термин «уголовная политика» и в теории, и на практике, и в массовом правосознании устоялся именно в том значении, которое подразумевается в рамках настоящей работы, а потому может и дальше занимать свою нишу в словаре специальных терминов теории уголовного права.[221]
Таким образом, мы пришли к выводу, что «уголовная политика» и «уголовно-правовая политика» являются равноценными понятиями, каждое из которых используется для обозначения борьбы с преступностью при помощи уголовно-правовых средств и методов. Единственное преимущество термина «уголовно-правовая политика» состоит в том, что в условиях сохраняющегося до настоящего времени разноаспектного подхода к пониманию изучаемого феномена его использование автоматически снимает все вопросы об объеме уголовно-политического воздействия.
5. Уголовная политика – это стратегический курс государства.
В русском языке слово «политика» используется для обозначения не одного и не двух, а целого ряда одноименных понятий. Не удивительно поэтому существование самых разнообразных подходов к пониманию политики,[222] представители которых используют соответствующий термин в своих предметных интересах. Вот лишь некоторые из предлагаемых определений политики:
1) «сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой являются проблемы завоевания, удержания и использования государственной власти»;[223]
2) «институциональное измерение, установленное с помощью конституции, правового порядка и традиций, определенный властный строй сообщества, способ его властной организации»;[224]
3) «процессы в государстве или организации… связанные с влиянием на содержание и выполнение преследуемых целей, установок, и их управление»;[225]
4) «деятельность государства в области внутренней жизни страны и международных отношений, а также деятельность общественных группировок, партий, определяемая их интересами и целями»;[226]
5) «программа, метод действия или сами действия, осуществляемые человеком или группой людей по отношению к какой-либо одной проблеме или совокупности проблем, стоящих перед обществом»;[227]
6) «вопросы и события общественной, государственной жизни».[228]
Не отрицая права на существование всех перечисленных, а возможно и других определений политики, считаем, что применительно к объекту настоящего исследования роль ориентира при выборе одного из предложенных аспектов принадлежит направленности уголовной политики и цели, которой эта направленность определяется.
Категория «политика» (греч. πολιτικα – государственные или общественные дела, от πολις – государство[229]), являвшаяся принадлежностью древнегреческой мысли, вошла в европейские языки практически без изменений. Поэтому независимо от отрасли знаний, в которой используется понятие политики, его традиционное «строгое» научное значение обязательно предполагает руководство государством или оказание влияния на государственное управление (М. Вебер).
Учитывая данное обстоятельство, а также исходя из особенностей функциональной сферы уголовной политики, полагаем, что при определении стержневого, центрального компонента содержания ее понятия следует опираться на третье из приведенных значений политики. Именно оно отражает те необходимые элементы, которые позволяют создать адекватное представление об уголовной политике, а именно:
1) Государственно-управленческий элемент.
Предназначение уголовной политики – в разрезе преследуемой ею цели – состоит в том, чтобы направлять уголовно-правовые процессы борьбы с преступностью в определенное русло, руководить ими, осуществлять в отношении них управленческую функцию. «Обрисовывая то, что было бы желательно, и каким путем достигнуть желаемого, улучшить существующее»,[230] в сущности, она являет собой сознательно выработанную стратегию и тактику борьбы с преступностью.[231]
При этом, в отличие от большинства сфер государственной жизни, в которых выполнение поставленных задач обеспечивается участием широких слоев населения (отдельных граждан, общественных объединений), уголовная политика по самой своей природе исключает возможность общественного содействия.[232] Выражая отношение власти к преступности, она предполагает решение вопросов, составляющих исключительную прерогативу государства. Именно государство в лице различных органов и должностных лиц[233] определяет содержание, объем и направления уголовно-правового воздействия, а также реализует последнее в процессе осуществления борьбы с преступностью.
2) Субстанциональный элемент.
Будучи ограничена пределами собственной функциональной сферы, уголовная политика не может, тем не менее, рассматриваться как изолированное, замкнутое на самом себе явление. Поэтому преимущество выбранного нами (третьего) значения политики и, конкретно, смысл его субстанционального элемента состоят в ассоциировании уголовной политики с объектом трансформации, находящимся не в стабильном, неизменном состоянии, а в движении, развитии.[234]
Итак, рассмотренные элементы позволили нам выделить очередную характерную черту уголовной политики, определяющую ее как «стратегический курс государства».[235]
6. Уголовная политика объединяет интересы внутренней и внешней политики государства, решая задачи борьбы с преступностью как внутри, так и за его пределами.
В уголовно-правовой литературе уголовную политику чаще всего рассматривают в качестве составной части внутренней государственной политики.[236] Подобный подход вряд ли можно признать оправданным:
1. Угроза нарушения национальных интересов в результате преступной деятельности извне не менее, а иногда и более опасна, чем при совершении преступлений внутри страны.
2. Не в меньшей защите со стороны государства нуждаются граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, в случае совершения в отношении них преступлений за ее пределами.
3. Абсолютно очевидной в условиях современной криминальной глобализации является необходимость осуществления уголовно-правового воздействия и в тех случаях, когда совершенными преступлениями – без причинения непосредственного вреда интересам России – нарушаются интересы других государств и, в конечном итоге, всего мирового сообщества (речь идет о международных и так называемых конвенционных преступлениях).
Таким образом, преследуя цель снижения преступности, уголовная политика не должна ограничивать ее достижение исключительно государственно-территориальными пределами.
Все это требует формирования и реализации не только внутри-, но и внешнеполитического курсов, высшим приоритетом которых будет всесторонняя защита личности, общества и государства, в том числе от преступных посягательств. Следует отметить, что в Российской Федерации подобные приоритеты расставлены достаточно четко; они закреплены в важнейших директивных документах государства.[237]
Из них и черпает свое содержание уголовная политика.
7. Научная обоснованность уголовной политики.
По мнению многих авторов, научная обоснованность (или научность) относится к числу принципов уголовной политики.[238] Не возражая против подобного подхода, полагаем, что рассматривать научную обоснованность только в качестве принципа уголовной политики крайне неверно.
Научная обоснованность – это неотъемлемое свойство уголовной политики, ее «качественная характеристика, без которой политика… просто не может мыслиться».[239] Принятие теоретически не продуманных, лишенных доктринального содержания, не соответствующих современному уровню научного развития решений в сфере борьбы с преступностью превращает уголовную политику в схоластику.
К сожалению, именно этим грешит российская уголовная политика последних двух лет: проведенные за указанный период реформы уголовного законодательства позволили некоторым ученым ответственно заявить об «отсутствии продуманной уголовно-правовой политики, и даже ее концепции», о «кризисе российской уголовной политики».[240]
Будучи стратегическим курсом государства в сфере борьбы с преступностью, уголовная политика наглядно демонстрирует, что применяемые средства и методы уголовно-правового воздействия способны дать надлежащий эффект либо, напротив, не могут привести к желаемому результату.
Научную основу уголовной политики образуют фундаментальные и прикладные исследования, выполненные в рамках предмета и с использованием методов уголовно-правовой, криминологической, а также иных социальных и естественных наук, значимых для уголовной политики.
Считаем возможным, суммируя все ранее изложенное,[241] сформулировать следующее определение понятия уголовной политики.[242]
Уголовная политика – это основанный на объективных условиях общественного развития и достижениях современной научной мысли стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью как внутри, так и за его пределами, имеющий своей целью максимально возможное снижение преступности путем применения средств и методов уголовно-правового воздействия.
Освещая вопрос о понятии уголовной политики, необходимо отметить, что оно, равно как и понятие уголовного права, используется в нескольких значениях. Наряду с уже рассмотренным значением – уголовная политика как стратегический курс государства в сфере борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами и методами, – выделяются понятия уголовной политики как научного направления и как учебной дисциплины.
При этом подход к их пониманию также не отличается единообразием. Например, одни авторы ведут речь о необходимости создания самостоятельной междисциплинарной уголовно-политической научной и учебной дисциплины[243] («уголовной политологии» (И. А. Исмаилов)), другие же рассматривают теорию уголовной политики в качестве составной части такой науки, как политика права.[244]
По нашему мнению, именно вследствие междисциплинарного и межотраслевого характера, которым ученые наделяют теорию уголовной политики, претворить соответствующие предложения в жизнь крайне сложно, свидетельство тому – их нереализованность на протяжении более чем тридцати лет. А вот о преподавании спецкурса уголовной политики (в рамках уголовного права) в высших юридических учебных заведениях следует серьезно подумать.
2. Значение уголовной политики
Политический подход приобрел традиционный характер при решении вопросов в самых различных сферах государственной и общественной жизни. Достаточно обратиться к законодательным актам, и тот факт, что политика вездесуща, становится совершенно очевидным: она бывает жилищной, энергетической, промышленной, аграрно-продовольственной, денежно-кредитной, экономической, налоговой, бюджетной, информационной, алкогольной, в области санаторно-курортного дела, телевизионного вещания и радиовещания, экологического образования и просвещения и т. д.
С учетом изложенного значение уголовной политики как одного из направлений деятельности государства в сфере борьбы с преступностью переоценить невозможно. Именно поэтому мы не будем останавливаться на характеристике всего «ролевого» потенциала уголовной политики и выделим лишь центральную, стержневую ее функцию.
Первостепенной задачей уголовной политики является, на наш взгляд, постоянное решение «вечной проблемы механизмов и результатов уголовно-правового воздействия внутри общества»:[245] уголовная политика должна предельно точно выявлять потребности общества в уголовно-правовом реагировании и формировать отчетливое представление о реальных возможностях такового. «Невнятность, а иногда и мифологичность представлений о функционировании уголовного права… порождает и неясные представления о направлениях и способах его развития»,[246] влечет подмену им иных, более эффективных, средств воздействия на отклоняющееся поведение.[247]
§ 2. Принципы и уровни уголовной политики
Принципы уголовной политики – очередной дискуссионный вопрос «уголовно-политического блока». Но, в отличие от многих других вопросов, варианты решения которых можно представить схематически, приведя их к каким-либо общим знаменателям, определение системы принципов уголовной политики, равно как, впрочем, и раскрытие их содержания, подобной схематизации не поддается.
Главным объяснением этому могут служить: идеологически устаревшие представления многих исследователей советской уголовной политики; подмена принципов уголовной политики принципами уголовного законодательства, принципами уголовного правоприменения, а иногда и содержанием самих этих явлений и процессов; чрезвычайная сложность проблемы принципов вообще.
Определяя собственное отношение к поставленному вопросу, мы соглашаемся с Н. А. Лопашенко в том, что принципам уголовной политики присущи, в основном, те же принципы, что и политике права вообще.[248]
Систему таких принципов образуют:
– социально-политическая обусловленность;
– научная обоснованность;
– законность, согласованность с международными стандартами при учете национальных интересов;
– приоритетность прав и основных свобод человека и гражданина;
– легитимность, демократичность, гласность;
– учет нравственных ценностей и культурных традиций общества;
– планомерность и прогностичность;
– реалистичность, достаточность средств и ресурсов.[249]
Что касается уровней уголовной политики, то с сожалением следует отметить, что в специальной литературе данный аспект учения об уголовной политике чаще всего не подвергается научному анализу. Между тем его рассмотрение имеет существенное значение для создания полноценного представления об изучаемом феномене.
В научной литературе – в той, в которой соответствующий аспект все-таки освещается, – можно встретить несколько вариантов уровневой дифференциации уголовной политики. Скажем, Г. М. Миньковский писал, что об уголовной политике можно говорить на трех уровнях – концептуальном, законодательном, правоприменительном.[250] По мнению Н. И. Загородникова, существует два уровня уголовной политики: 1) политика, проводимая высшими органами государственной власти, высшими органами правосудия, – общая линия борьбы с преступностью; 2) проведение этой линии в жизнь практическими органами, осуществляющими борьбу с преступностью.[251] В. П. Ревин считает, что уголовная политика имеет концептуальный, законодательный, нормативный, управленческий и «правоприменительный» уровни.[252]
Учитывая, что все обозначенные позиции ориентированы на уголовную политику в широком смысле слова (по-нашему, на государственную политику в сфере борьбы с преступностью), мы не будем подвергать их критическому анализу и предложим собственное видение уровней уголовной политики. На наш взгляд, их два:
1) концептуальный уровень (директивная политика).
На данном уровне формируется общая государственная концепция борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами и методами. В идеале она должна находить свое отражение в едином государственно-правовом документе, а субъектом ее формирования должен, с нашей точки зрения, выступать Государственный совет РФ.[253] Одной из основных задач последнего является «обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся… важнейших вопросов государственного строительства и укрепления основ федерализма» (раздел II Указа). При этом далее в Указе отмечается, что «Государственный совет и его президиум могут создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки вопросов, которые предполагается рассмотреть на заседании Государственного совета, привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ ученых и специалистов» (п. 13 раздела III).
Предвидя возможную критику в свой адрес, сразу оговоримся, что формирование общегосударственной концепции уголовной политики ни в коей мере не означает решения вопросов преступного и наказуемого и никак не претендует на прерогативу высших органов законодательной власти. Концептуальный уровень потому и является концептуальным, что предполагает определение основных, общих, принципиальных моментов уголовно-правового воздействия (о выдаче преступников, о применении положений международно-правовых документов, о приоритетных направлениях борьбы с преступностью и пр.).
В настоящее время в России отсутствует единый акт-концепция уголовной политики, а отдельные положения концептуального характера разбросаны по ряду важнейших государственных документов: они содержатся, в частности, в Конституции, Концепциях внутренней и внешней политики и т. п.
Подводя итог, необходимо также отметить, что к данному уровню (и вообще к уровням уголовной политики) не имеют никакого отношения теоретические исследования уголовной политики. Они составляют научные основы последней, и именно в этом своем качестве должны учитываться на каждом ее уровне;
2) правореализационный уровень (практическая политика).
Этот уровень предполагает практическое выражение уголовной политики в соответствии с теми исходными предписаниями, которые выработаны на концептуальном уровне, ее реализацию в той или иной форме (об этом далее). Таким образом, мы полагаем, что законотворческая и правоприменительная практика являются формами реализации уголовной политики и не могут рассматриваться в качестве самостоятельных ее уровней.
§ 3. Формы, средства и методы реализации уголовной политики
Достаточно традиционным для теоретических исследований уголовной политики является выделение таких форм ее реализации, как правотворчество и правоприменение.[254] Однако некоторые авторы, помимо указанных, относят к числу форм реализации уголовной политики влияние на общественное сознание (по аналогии с общей юридической политикой),[255] а также иную деятельность государственных органов, направленную на борьбу с преступностью.[256]
По нашему мнению, существуют следующие формы реализации уголовной политики:
1) правотворчество – выражается в принятии уголовного законодательства, а также в его дальнейшей реформации. Оно является первичной формой выражения уголовной политики, так как именно в его рамках в основном формируется содержание уголовной политики. Средствами реализации уголовной политики в сфере правотворчества служат уголовный закон в целом (при его принятии, создании новой редакции, отмене) или отдельные нормы (положения) уголовного закона (при их принятии, модификации, исключении);[257]
2) правоприменение – выражается в осуществлении практической деятельности, связанной с применением норм уголовного законодательства. Средствами реализации уголовной политики в данной сфере социальной практики являются акты применения материального уголовного права (обвинительные заключения, приговоры, определения (постановления) об освобождении от уголовной ответственности или наказания и пр.);
3) правоинтерпретация – выражается в деятельности высших органов судебной власти государства, правомочных в соответствии со ст. 126 Конституции РФ давать официальные разъяснения по уголовно-правовым вопросам судебной практики. Средствами реализации уголовной политики в сфере правоинтерпретации выступают акты толкования норм уголовного права (постановления Пленума Верховного Суда РФ).
Совершенно очевидно взаимовлияние, оказываемое друг на друга уголовной политикой и средствами ее реализации. Если средства суть инструментарий воплощения уголовной политики в жизнь, то уголовная политика есть наполнитель этих средств.
По справедливому замечанию Н. А. Лопашенко, в литературе чаще всего не затрагивается вопрос о методах уголовной политики, к числу которых она относит криминализацию, декриминализацию, пенализацию, депенализацию, дифференциацию уголовной ответственности и наказания.[258]
Поддерживая автора в данном, совершенно обоснованном, на наш взгляд, решении, позволим себе не согласиться с определением ею сферы применения указанных методов, ограничиваемой преимущественно правотворческой деятельностью (за исключением дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности, которая «работает» и в области правоприменения).[259]