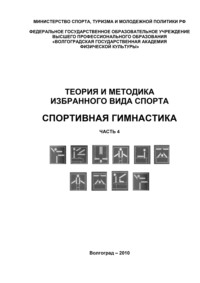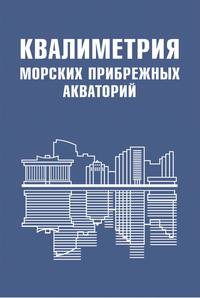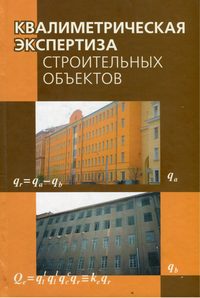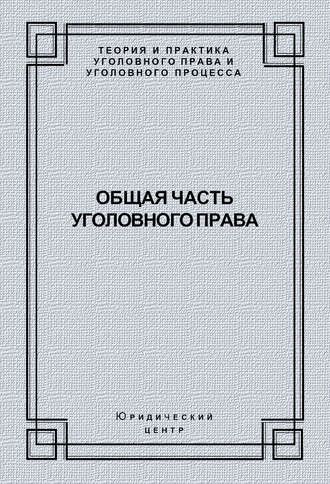
Полная версия
Общая часть уголовного права
Дискуссионным представляется и вопрос о необходимости введения в формулу вины признака осознания лицом уголовной противоправности своего деяния.[145] Это предложение не является новым для теории уголовного права. Например, Н. С. Таганцев, рассматривая разные варианты случайности посягательства, которые, по его мнению, исключают всякую виновность и ответственность, выделял такой вид случайности, как невозможность предвидения. Ученый писал, что «обвиняемый в нарушении полицейского запрета может сослаться на случайность нарушения, если он, несмотря на все свое доброе желание, не мог узнать о существовании нарушенного им запрета, когда, например, запрет оставался секретным».[146]
Нам представляется, что изложенная точка зрения, бесспорно, заслуживает внимания, однако, с другой стороны, возникает целый ряд вопросов. Во-первых, не приведет ли подобное нововведение к тому, что лица, совершившие преступления, будут иметь реальную возможность избежать уголовной ответственности, сославшись на незнание закона? Во-вторых, кто будет устанавливать круг преступлений, по которым кроме общественной опасности необходимо еще и осознание субъектом их противоправности? Если, предположим, возложить данную обязанность на суд, то не приведет ли это к судебному произволу; если же указать такие преступления в Уголовном кодексе, то какой критерий отнесения деяний к этой категории установить? И, в-третьих, авторы в большинстве своем говорят о составах с так называемыми бланкетными диспозициями, т. е. о тех, преступное поведение в рамках которых есть нарушение определенных установлений (правил, норм и т. д.) других правовых отраслей.[147] Однако такие составы зачастую предусматривают возможность совершения преступлений только специальными субъектами (ст. 143, 246–251, 340–344, 349–352 УК и др.), которые в силу своих служебных или иных обязанностей должны соблюдать указанные установления и правила, а следовательно, и знать их.
Таким образом, мы полагаем, что, несмотря на всю привлекательность идеи о необходимости введения в формулу вины признака осознания лицом уголовной противоправности своего деяния, это положение не следует внедрять в Уголовный кодекс РФ. Лицо, совершающее преступление, должно осознавать его общественную опасность, а не противоправность.
Не меньше споров на сегодняшний день вызывает положение, сформулированное в ч. 2 ст. 5 УК, согласно которому «объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается». По мнению В. Д. Филимонова, это положение «имеет необоснованно односторонний характер. Не допускается не только объективное, но и субъективное вменение, т. е. ответственность за не совершенное лицом общественно опасное деяние и за не причиненные им общественно опасные последствия, иными словами, за одно лишь намерение совершить общественно опасное деяние, за „преступный образ мыслей“ и т. п.».[148]
Основная проблема в данном случае, на наш взгляд, заключается в неоднозначной трактовке самого понятия «субъективное вменение».
Некоторые авторы считают, что термин «субъективное вменение» означает не что иное, как привлечение к уголовной ответственности только за виновное совершение общественно опасного деяния.[149] Например, М. П. Карпушин и В. И. Курляндский в этой связи пишут: «Логично было бы сказать, что принцип субъективного вменения в противовес принципу объективного вменения заключается в установлении ответственности за чистую вину, т. е. за преступное намерение, мысль совершить преступление, даже если она не объективизировалась в совершении общественно опасного деяния… Принцип субъективного вменения в буквальном его понимании должен быть отвергнут так же, как и принцип объективного вменения. Однако о субъективном вменении в уголовном праве говорят в другом смысле, а именно о вменении в ответственность только того общественно опасного деяния, которое причинено виновно: умышленно или по неосторожности».[150]
Несколько другой аспект проблемы отражает в своей работе Н. А. Лопашенко. По ее мнению, термин «субъективное вменение» является не очень удачным в том плане, что «может быть истолкован совершенно иначе, а именно как вменение в зависимости от субъективных усмотрений правоприменителя, или как вменение только в зависимости от умысла или неосторожности, без учета объективных обстоятельств».[151]
Проанализировав изложенные выше позиции, можно сделать некоторые выводы. Во-первых, поскольку мы не можем в теории уголовного права прийти к единому пониманию термина «субъективное вменение», его нельзя использовать в тексте Уголовного закона, это лишь усугубит путаницу. Во-вторых, для того, чтобы исключить саму необходимость поиска понятия, полярного понятию «объективное вменение», последнее не следует использовать в Уголовном кодексе, тем более, что от этого смысл ч. 2 ст. 5 УК не изменится.[152] В-третьих, что касается предложения В. Д. Филимонова о дополнении рассматриваемой уголовно-правовой нормы положением, согласно которому не допускается привлечение лица к уголовной ответственности «за не совершенное… общественно опасное деяние и за не причиненные им общественно опасные последствия, иными словами, за одно лишь намерение совершить общественно опасное деяние, за „преступный образ мыслей“ и т. п.», то, нам представляется, что эта аксиома нашла свое отражение в ч. 1 ст. 5 УК, гласящей: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина».
Таким образом, мы считаем, что ч. 2 ст. 5 УК могла бы выглядеть следующим образом: «Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается».
§ 5. Принцип справедливости
Статья 6 Уголовного кодекса гласит: «1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление».
Принцип справедливости, наверное, самый дискуссионный в системе принципов уголовного законодательства. Это обусловлено, главным образом, тем, что справедливость является философской, а не правовой категорией, поэтому появление в уголовном праве принципа справедливости и такой цели наказания, как восстановление социальной справедливости, вызывает у некоторых ученых вполне понятное сомнение: как из многогранного явления вычленить «ту отдельную грань, которая распространяла бы свое действие на такую отрасль права, как уголовное, а тем более попытаться представить эту грань в качестве основного положения этой отрасли, т. е. ее принципа»?[153] Мы полагаем, что именно этим можно объяснить и тот факт, что не все ученые согласны с необходимостью законодательного определения справедливости, и существующие проблемы законодательной регламентации рассматриваемого основного положения уголовного законодательства.
Действительно, приходится констатировать, что в настоящее время принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 Уголовного кодекса, сводится лишь к справедливости наказания и иных мер уголовно-правового характера, применяемых к лицу, совершившему преступление, что не совсем верно.
С точки зрения Н. Ф. Кузнецовой, помимо указанного в Уголовном кодексе аспекта, рассматриваемый принцип должен проявляться и в справедливости уголовного закона.[154] Однако основная проблема, на наш взгляд, заключается в определении того, что следует понимать под справедливостью уголовного закона и как законодательно отразить это, несомненно, важное положение.
Обратимся к сущности самой справедливости как морально-этической категории. А. И. Экимов отмечал, что «в отличие от других категорий этики, имеющих оценочный характер, с позиций справедливости оцениваются не отдельные явления, а соотношения между ними».[155] Следовательно, нам недостаточно просто закрепить, что уголовный закон должен быть справедливым; необходимо сформулировать определенные критерии, которым этот закон обязан соответствовать.
Используя имеющиеся в науке уголовного права наработки, мы попробуем сформулировать критерии справедливости уголовного закона.
Во-первых, уголовный закон должен быть криминологически обоснован, т. е., по выражению Н. Ф. Кузнецовой, нацелен на сокращение преступности, исходя из ее уровня, динамики, структуры и прогноза.[156] Э. Ф. Побегайло также указывает на то, что изменения в уголовном законодательстве должны быть криминологически обоснованны, при этом предполагается тщательный учет выявляемых и прогнозируемых тенденций преступности, ее структуры, новых ее видов, контингента преступников и т. п.[157]
Следует обратить внимание на то, что одним из первых попытку монографического исследования криминологической обусловленности норм уголовного права предпринял В. Д. Филимонов. Он рассмотрел криминологические основания установления, изменения и отмены правовых норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступления. Далее вопросы, связанные с необходимостью учета социально-экономических факторов в формировании уголовно-правовых норм, проанализировал в своей работе П. С. Тоболкин.[158]
В настоящее время вопрос о необходимости криминологической обоснованности норм уголовного закона приобретает особую актуальность. Надеемся, что с помощью данного критерия мы сможем оградить Уголовный кодекс от нежелательных изменений, таких, например, как некоторые изменения, внесенные Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. Мы полностью согласны с Р. Р. Галиакбаровым и В. В. Соболевым, по мнению которых, «изъяв неоднократность из Уголовного кодекса РФ, законодатель фактически игнорировал серьезные теоретические разработки множественности преступлений, убедительно доказывающие, что повторение преступлений – типичный вариант криминальной активности, вызывающий серьезное возрастание общественной опасности содеянного и нуждающийся в специальной криминализации».[159] И таких изменений немало.
Во-вторых, уголовный закон должен быть обоснован научно.
По нашему глубокому убеждению, именно тесная связь науки, законотворчества и практики применения уголовно-правовых норм позволит прийти к созданию действительно эффективного уголовного закона, направленного на выполнение всех поставленных перед ним задач.
К сожалению, приходится констатировать, что критерий научной обоснованности в настоящее время иногда просто игнорируется. Оценивая некоторые изменения, внесенные в УК РФ все тем же ФЗ от 8 декабря 2003 г., ряд наиболее ярких представителей уголовно-правовой науки в своей статье «Самый гуманный УК в мире» указывают на то, что во время подготовки поправок «не был соблюден один из важнейших принципов законотворчества – его научная обоснованность. Представители научной общественности – эксперты в области уголовного права были фактически отстранены от подготовки законопроекта. Практически все многочисленные и обоснованные замечания ученых страны, которые были представлены в Государственную Думу к первому чтению законопроекта, оказались проигнорированы разработчиками поправок».[160]
В результате практически сразу же после внесения данных изменений всплыл целый ряд недочетов как практического, так и чисто технического характера, что привело к необходимости скорейшего их устранения.[161] Так, одним из главных достижений анализируемого закона является введение двух новых составов: ст. 127.1 УК – Торговля людьми и ст. 127.2 УК – Использование рабского труда. Однако, к сожалению, первая редакция ст. 127.1 УК имела некоторые недостатки. Например, одна и та же цель – изъятие у потерпевшего органов или тканей – являлась и элементом состава по части первой, и квалифицирующим обстоятельством по части второй. Возникал вопрос: как в таком случае квалифицировать действия, например, по вербовке человека, совершенные с указанной целью: по ч. 1 или ч. 2 ст. 127.1 УК? Данный недостаток был исправлен Федеральным законом от 21 июля 2004 г.
Наиболее ярким доказательством необходимости отмеченного критерия является то, что институт конфискации имущества, на сохранении которого так настаивала научная общественность, все же был возвращен в Уголовный кодекс, хотя и в несколько ином статусе. В соответствии со ст. 5 ФЗ № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма“ и Федерального закона „О противодействии терроризму“» от 27 июля 2006 г.,[162] конфискация имущества относится не к видам наказания, а к иным мерам уголовно-правового характера.
В-третьих, уголовный закон не должен противоречить Конституции Российской Федерации, действующим нормам других отраслей права, а также общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации.
Что касается первого положения, то особую актуальность оно имело в период между принятием Конституции РФ (1993 г.) и вступлением в силу Уголовного кодекса РФ (1996 г.), поскольку многие нормы Уголовного кодекса РСФСР 1960 г., применявшиеся в это время, противоречили нормам принятой Конституции, что, естественно, подрывало авторитет данных нормативных актов. Однако следует признать, что и в настоящее время в Уголовном кодексе есть нормы, не соответствующие Основному закону. Например, в названии ст. 4 УК, в отличие от ч. 2 ст. 19 Конституции РФ, говорится только о равенстве граждан перед законом.
Далее: уголовный закон, по нашему мнению, не должен противоречить действующим нормам других отраслей права.
Уголовное право входит в правовую систему России и непосредственно связано с другими отраслями права: гражданским, трудовым, семейным, банковским, предпринимательским, налоговым, экологическим, авторским и иными.
Значительная часть уголовно-правовых норм носит бланкетный характер, и их применение без обращения к содержанию норм позитивного права просто невозможно. В данном случае особенно важно, чтобы между этими нормами не было противоречий. Однако, к сожалению, в настоящее время они иногда возникают. Например, одной из форм незаконного предпринимательства является осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации. Как справедливо указывает Н. А. Лопашенко, базовый нормативно-правовой акт в этой сфере – Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г.[163] «не знает понятия „правила регистрации“ и использует понятие „порядок регистрации“, которое, видимо, и имел в виду законодатель…».[164]
Наконец, уголовный закон не должен противоречить общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации.
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Часть 2 ст. 1 Уголовного кодекса содержит положение, согласно которому настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.
Таким образом, одной из задач, стоящих в настоящее время перед законодательными органами, является приведение уголовного законодательства «в соответствие с принципами и нормами международного права».[165] Речь ни в коем случае не идет о посягательстве на суверенитет Российской Федерации, однако наше государство в силу ряда причин не может обособиться от происходящих в мире интегративных процессов. Невозможно не признавать тот факт, что международное право играет большую роль как при создании, так и при применении уголовно-правовых норм. Одним из подтверждений этому служит постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации»,[166] в котором указывается, что «международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование судебной деятельности, связанной с реализацией положений международного права на внутригосударственном уровне».
Использование сформулированных выше критериев справедливости будет способствовать повышению эффективности уголовного законодательства.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что целесообразно в ч. 1 ст. 6 УК закрепить следующее положение: «Уголовный закон должен быть справедливым, то есть криминологически и научно обоснованным, не противоречить Конституции Российской Федерации, действующим нормам других отраслей права, а также общепризнанным принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации».
Еще на одну немаловажную проблему законодательной регламентации принципа справедливости обращает внимание Ю. И. Бытко. Он полагает, что принцип справедливости в уголовном законодательстве «сформулирован недостаточно полно и к тому же однобоко: в ст. 6 УК РФ идея справедливости сведена к заботе о лице, совершившем преступление, но ни слова не сказано об интересах потерпевшего…».[167]
Однако есть еще одна проблема, которую в этой связи нельзя обойти вниманием: необходимо определить того, что представляет собой справедливость для лиц, которым преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред. В сфере уголовного права нередки случаи, когда один и тот же приговор суда справедлив в отношении осужденного и несправедлив в отношении потерпевшего, поскольку у каждого свое представление о том, что справедливо, а что – нет. Но сложность состоит в том, что уголовное право не может быть ориентировано на абстрактное представление о справедливости отдельного человека.
Нам представляется, что в настоящее время решить обозначенную проблему можно только посредством назначения лицу, совершившему преступление, такого наказания или применения иных мер уголовно-правового характера, которые бы соответствовали характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного (ч. 1 ст. 6 УК). Лишь тогда наказание будет справедливым как в отношении преступника, так и в отношении лиц, пострадавших от преступления.
Иного мнения придерживается С. А. Галактионов. Он считает, что следует дополнить ст. 6 УК частью 3 следующего содержания: «В случае причинения вреда человеку в результате совершенного преступления на лицо, признанное виновным в его совершении, налагается обязанность возместить либо компенсировать причиненный вред».[168]
Во-первых, на наш взгляд, это дополнение в большей степени относится к сфере гражданского права, а именно к главе 59 ГК. Поэтому возникает вопрос: а есть ли основания дублировать указанное положение в Уголовном кодексе? В какой-то степени это оправдано, но, скорее всего, речь должна идти не о принципе справедливости, а о такой цели наказания, как восстановление социальной справедливости. Поэтому данное положение было бы уместно закрепить в ст. 43 УК, ведь в настоящее время содержание соответствующей цели наказания нигде не раскрывается, что затрудняет и ее достижение.
Таким образом, с нашей точки зрения, на сегодняшний день закрепление в ч. 1 ст. 6 УК критериев назначения справедливого наказания или иных мер уголовно-правового характера является определенной гарантией соблюдения прав как для лиц, совершивших преступление, так и для потерпевших.
Подводя итог, следует отметить, что мы в данном параграфе намеренно рассмотрели лишь один аспект принципа справедливости, который закреплен в ч. 1 ст. 6 Уголовного кодекса. На наш взгляд, положение части второй, согласно которой «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление», служит проявлением принципа неотвратимости уголовной ответственности и должно быть перенесено в статью, посвященную этому принципу.
§ 5. Принцип гуманизма
Статья 7 УК закрепляет: «1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства».
Определяя содержание уголовно-правового принципа гуманизма, прежде всего необходимо уяснить, а что же вообще следует понимать под термином «гуманизм». Этот вопрос интересует исследователей как в области уголовного права, так и в области теории государства и права.
По мнению И. О. Цыбулевской, «в широком смысле гуманизм означает исторически изменяющуюся систему воззрений на общество и человека, проникнутых уважением к личности, ее достоинству и правам, принципам равенства, справедливости».[169]
С точки зрения С. Г. Келиной и В. Н. Кудрявцева, «гуманизм – это нравственная позиция, выражающая признание ценности человека как личности, уважение его достоинства, стремление к благу человека как цели общественного прогресса».[170]
Е. В. Кашкина полагает, что «гуманизм как принцип права – это юридическое признание и закрепление личности человека как высшей ценности, провозглашение и гарантированность осуществления его прав и свобод и создание достаточных условий для развития и деятельности человека».[171]
Нетрудно заметить, что во всех приведенных выше определениях так или иначе отражается конституционное, закрепленное в ст. 2 Основного закона РФ положение, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В этом как раз и заключается суть гуманизма, т. е. гуманного отношения к людям. Обязанность государства состоит в признании, соблюдении и защите этих прав и свобод, в создании условий для их реализации. Особую роль в данном случае играет уголовное право, призванное охранять сложившиеся общественные отношения от преступных посягательств.
Уголовный кодекс РФ 1996 г. был принят на основе Конституции РФ, и поэтому не случайно в системе принципов уголовного законодательства предусмотрен принцип гуманизма, который, как указывают С. Г. Келинаи В. Н. Кудрявцев, не противопоставляет участников уголовно-правовых отношений в том смысле, что к некоторым из них – потерпевшему, свидетелю необходимо проявлять человечное, гуманное отношение, а к другим, и прежде всего к обвиняемому, этого якобы не требуется.[172] В данном нормативно-правовом акте впервые для российского уголовного законодательства приоритет в уголовно-правовой охране был отдан правам и свободам личности, а не интересам общества и государства. Однако, на наш взгляд, это положение не нашло должного закрепления в Общей части Уголовного кодекса.
Часть 1 ст. 7 УК закрепляет, что «уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». Попробуем проанализировать содержание этой уголовно-правовой нормы. Для начала обратимся к выражению «безопасность человека». Согласно толковому словарю, безопасность – это такое «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности».[173]
В соответствии со ст. 1 Закона «О безопасности» от 5 марта 1992 г.,[174] под безопасностью понимается «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».
В ч. 1 ст. 7 УК законодатель акцентирует внимание только на одном из указанных аспектов – на безопасности человека, с чем, впрочем, согласны не все. А. Ф. Галузин пишет: «Недостатком действующего УК является то, что обеспечиваемая УК безопасность (личности, общества, государства) по объему содержания шире сформулированной в нем „безопасности человека“ как формы „уголовно-правового гуманизма“».[175] Мы думаем, объяснить это можно тем, что в данном случае речь идет именно о принципе гуманизма, который заключается в гуманном отношении к людям, а не к обществу или государству в целом.
Но, нам представляется, что вопрос в другом, а именно: почему законодатель связывает гуманизм именно с обеспечением безопасности человека?
В. В. Мальцев полагает, что в этом контексте нельзя не признать узким содержание диспозиции ч. 1 ст. 7 УК, так как оно охватывает лишь законодательное обеспечение и только безопасности человека, полнота же такого обеспечения зависит и от суда, а выражение «безопасности человека» предполагает, прежде всего, охрану его жизни, здоровья и свободы, оставляя тем самым за пределами этого обеспечения все другие многочисленные гуманистические ценности.[176] В целом мы согласны с точкой зрения В. В. Мальцева. Единственно, нам не совсем ясно, почему автор ограничивает понятие «безопасность человека» только охраной его жизни, здоровья и свободы. Мы считаем, что автор использует анализируемое понятие в узком значении. В то же время есть все основания говорить и о широком значении, согласно которому безопасность человека обеспечивается реализацией и других прав, свобод и интересов, в том числе материального, экономического, социального характера и т. д. Трудно представить себе человека, не имеющего места жительства, постоянного заработка или необходимых для жизни социальных гарантий, находящегося в состоянии безопасности.