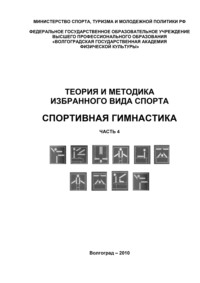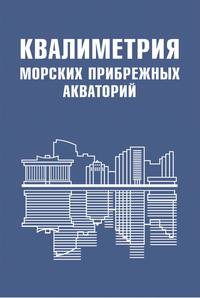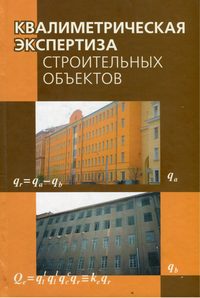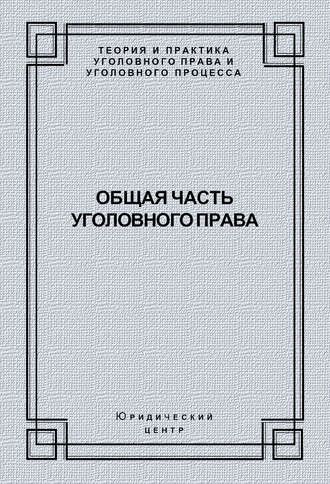
Полная версия
Общая часть уголовного права
Однако о каком бы понятии безопасности человека, узком или широком, мы ни говорили, на наш взгляд, оно все равно является лишь составной частью принципа гуманизма, который, например, по мнению В. Д. Попова, представляет собой «выраженное в правовых формах признание высшей ценности человека, закрепление и обеспечение его прав, условий свободного развития, благосостояния, утверждение подлинно человеческих отношений между людьми и стимулирование всестороннего развития человека».[177]
На наш взгляд, уголовно-правовой принцип гуманизма должен быть направлен, прежде всего, на обеспечение приоритетной защиты прав и свобод человека от преступных посягательств. Причем его действие не должно ограничиваться только защитой интересов потерпевших, хотя о них необходимо говорить в первую очередь. В данном случае речь идет о защите прав и свобод всех людей, в том числе и лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности.[178] Таким образом, мы считаем необходимым сформулировать ч. 1 ст. 7 УК следующим образом: «Уголовное законодательство обеспечивает приоритетную защиту прав и свобод человека от преступных посягательств».
В юридической литературе есть мнение, что для признания приоритета уголовно-правовой охраны личности и особенно таких ее естественных прав, как право на жизнь и здоровье, перед другими объектами охраны, следует при конструировании уголовно-правовых норм все статьи, где дополнительным объектом преступления выступают основные права и свободы человека и гражданина, включить в раздел «Преступления против личности», изменив их редакции. Например, ч. 2 ст. 264 УК будет сформулирована следующим образом: «Причинение по неосторожности смерти человека в результате нарушения лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств».[179]
С этим предложением трудно согласиться. Во-первых, за счет такого нововведения раздел 7 Уголовного кодекса будет значительно расширен, что в конечном итоге приведет к трудностям в правоприменении. Во-вторых, чтобы определить, есть ли в конкретном случае основание для привлечения лица к уголовной ответственности, нам необходимо выявить все элементы состава преступления, в том числе и объект преступления, причем в первую очередь именно основной. Однако в приведенном выше примере преступление посягает в первую очередь не на жизнь человека, а на безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. И, наконец, в-третьих, на наш взгляд, могут возникнуть сложности в установлении причинно-следственной связи, так как не совсем ясно, «причинение смерти по неосторожности» является последствием или непосредственно самим деянием и между чем и чем необходимо устанавливать эту причинно-следственную связь.
Поэтому мы не считаем, что предложенная выше конструкция статей УК и его структуры позволит ярче отразить гуманизм уголовного права.
Часть вторая рассматриваемой нами статьи, указывающая на то, что «наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства», в большей степени реализуется в целях наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК. По всей вероятности, это обстоятельство дает В. Д. Филимонову основание считать, что положение, сформулированное в настоящее время в ч. 2 ст. 7 Уголовного кодекса, в качестве принципа рассматриваться не может, так как оно имеет частный характер и относится к регулированию лишь целей наказания.[180] Мы полагаем, что в какой-то степени В. Д. Филимонов прав, но согласиться с ним полностью нельзя. Прежде всего потому, что сфера действия положения ч. 2 ст. 7 УК не ограничивается только наказанием, а распространяется и на иные меры уголовно-правового характера.
Некоторые авторы обращают внимание еще на один аспект проявления принципа гуманизма в отношении лиц, совершивших преступления. Так, по мнению В. В. Похмелкина, «одним из основных уголовно-правовых проявлений гуманизма и критерием справедливости при назначении наказания выступает принцип экономии карательных средств, требующий ограничения наказания пределом, минимально необходимым для достижения его целей».[181]
В настоящее время данный принцип не потерял своей актуальности. Частично он нашел свое отражение в ч. 1 ст. 60 УК, согласно которой «более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания».
Следует отметить, что отдельные исследователи придают принципу экономии мер уголовной репрессии более существенное значение. Так, в юридической литературе есть мнение, что этот принцип является самостоятельной частью принципа гуманизма. Одними из первых данное предложение высказали С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев.[182] Затем оно нашло отражение в работе Ю. Е. Пудовочкина и С. С. Пирвагидова.[183] В. Д. Филимонов также указывает на то, что принцип гуманизма «состоит из двух требований, каждое из которых, если рассматривать его изолированно, может считаться самостоятельным принципом. Одно из них – требование, сформулированное в ч. 1 ст. 7 УК РФ… другое – требование, которое не включено в текст ст. 7 УК РФ, но которое сформулировано в ст. 60 УК РФ».[184]
Данная точка зрения нашла свое отражение и в Модельном УК для государств – участников СНГ, где ч. 2 ст. 10 (Принцип гуманизма) сформулирована следующим образом: «Лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, необходимая и достаточная для его исправления и предупреждения новых преступлений».[185] Подобная норма содержится также в ст. 9 УК Республики Таджикистан и в ст. 7 УК Республики Узбекистан.[186]
Мы, в свою очередь, не разделяем предложенный авторами подход.
Ранее, при определении понятия «принципы уголовного законодательства», мы указывали на то, что в качестве одного из признаков данного явления можно назвать обязательность его требований как для правотворческой, так и для правоприменительной деятельности. В нашем же случае сформулированное выше положение о том, что «лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание или иная мера уголовно-правового воздействия, необходимая и достаточная для его исправления и предупреждения новых преступлений», действует лишь на уровне правоприменения, когда суд, реализуя требования принципов гуманизма и справедливости, выносит приговор. Таким образом, здесь речь скорее идет не о принципе гуманизма уголовного законодательства, а о гуманной или антигуманной практике его применения.
Что же касается стадии законотворчества, то, безусловно, принцип экономии уголовной репрессии проявляется уже и на этой стадии, например, «когда решается вопрос как о круге деяний, включаемых в уголовный закон (криминализация), так и о мерах наказания за них (пенализация)»,[187] но в этом случае мы должны говорить уже о принципе уголовно-правовой политики, суть которого не сводится к положению ч. 2 ст. 10 Модельного УК.
Поэтому мы полагаем, что нет достаточных оснований считать принцип экономии уголовной репрессии самостоятельной частью принципа гуманизма и, следовательно, не согласны с необходимостью закрепления его в ст. 7 Уголовного кодекса.
И в заключение, подводя итог всему сказанному выше, нам хотелось бы еще раз обратить внимание на важность проблемы принципов уголовного законодательства. Ведь от того, насколько четко, точно и обоснованно с научной точки зрения они сформулированы в законе, зависит, прежде всего, эффективность применения последнего. В то же время принципы выступают в качестве своеобразной призмы, через которую мы должны рассматривать все изменения и дополнения, вносимые в действующие уголовно-правовые нормы, на предмет их своевременности, целесообразности и необходимости.
Глава 3
Уголовная политика (Е. В. Кобзева)
§ 1. Понятие, характерные черты и значение уголовной политики
Вопросы уголовной политики с давних пор занимают умы представителей наук криминального цикла. Внимание к ним с течением времени то угасает, то вновь усиливается, но своей дискуссионности проблема не утеряет. На страницах настоящей работы мы попытаемся передать авторское видение некоторых, наиболее сложных и спорных, аспектов уголовной политики, чувствуя при этом огромную ответственность перед авторитетными учеными, работавшими и работающими в данном направлении.
1. Понятие и характерные черты уголовной политики
С момента своего зарождения мысль об уголовной политике связывала существование последней с необходимостью противостояния величайшему злу человечества – преступности. Ошибочными в этом смысле представляются суждения тех ученых, которые пытаются объяснить значимость исследования проблем уголовной политики растущей криминализацией общественных отношений, появлением новых форм и видов преступной деятельности, расширением диапазона криминальных интересов, реформированием различных сфер государственной жизни… По нашему глубокому убеждению, данная проблематика в «рекламе» не нуждается: она актуальна сама по себе, во все времена и для всех стран мирового сообщества.[188] Непонимание или недооценка этого обстоятельства могут привести к утрате контроля над ситуацией в сфере противодействия преступности, к несвоевременному реагированию на ее неблагоприятное развитие.
Что же представляет собой уголовная политика и насколько обоснованно оперирование соответствующим термином?
Размышления над поставленными вопросами – с чего традиционно начинается любое исследование уголовной политики, и на чем делается, пожалуй, наибольший теоретический акцент, – сохранили свой дискуссионный характер вплоть до настоящего времени. В литературе можно встретить множество дефиниций уголовной политики, в процессе создания которых использованы самые разнообразные подходы: в одних случаях сделан акцент на объеме определяемого понятия, в других – с различной степенью интенсивности отражены те или иные свойства его содержания, в третьих – предпринято и первое, и второе одновременно.
Объем настоящей работы не позволяет осуществить даже поверхностный анализ существующих позиций, поэтому к их рассмотрению мы будем обращаться по ходу обоснования тех или иных положений, необходимых для формулирования собственного определения понятия уголовной политики. Последнее, будучи отправной точкой в рассмотрении всех связанных с уголовной политикой вопросов и, как следствие, залогом верных научных выводов по проблеме, должно максимально точно и полно передавать сущность исследуемого явления, чего, на наш взгляд, можно достичь только путем предварительного выявления и анализа характерных черт уголовной политики.
1. Функциональную сферу уголовной политики образует борьба с преступностью (противодействие преступности).
Альтернативный характер словосочетаний «борьба с преступностью» и «противодействие преступности» указывает на то, что определение функциональных горизонтов уголовной политики может быть произведено при помощи и одного, и другого выражения: каждое из них обозначает оказание наступательного воздействия на преступность. Однако, по мнению некоторых теоретиков, парадигма «борьба с преступностью» имеет определенные дефекты, которые сказываются в конечном итоге на содержании и результатах правотворческой и правоприменительной практики.[189] Относясь с уважением к данной позиции, полагаем, тем не менее, что в противовес аргументам, приводимым в ее обоснование, можно сформулировать следующие доводы.
Во-первых, термин «борьба с преступностью» употребляется для отражения процесса, сущностным свойством которого является стремление к победе над наиболее опасным видом антисоциального поведения – преступностью. Абсолютно непонятен поэтому негативизм, демонстрируемый С. С. Босхоловым при упоминании о борьбе как о непримиримом противостоянии сторон с конечной целью победы.[190] На наш взгляд, именно борьба с преступностью представляет собой ту сферу, в которой правильность сформулированного тезиса подтверждается со всей очевидностью. Мириться с существованием преступности и бездействовать – абсурдно, а вот желание победить ее – напротив, вполне естественно. Другое дело, что победу в рассматриваемом случае не следует толковать буквально, ассоциируя ее с полной ликвидацией преступности. Речь должна идти о победе над ростом последней, над появлением качественно новых ее форм, над совершенствованием методов криминальной деятельности… Собственно, из такого представления о перспективах борьбы с преступностью и исходит все разумное человечество.
Во-вторых, «борьба» действительно предполагает использование самых решительных мер (в «борьбе с преступностью» – наиболее строгих мер государственного принуждения), однако отнюдь не любые, как пишет С. С. Восходов.[191]
Современная медицина не в меньшей степени, чем уголовная политика, оперирует термином «борьба», но это вовсе не означает, что для борьбы, например, с социально опасными заболеваниями могут применяться такие кардинальные меры, как изоляция или физическое уничтожение их носителей. Поэтому беззаконие и произвол, риск появления которых в процессе «борьбы с преступностью», безусловно, существует, находятся в прямой зависимости не от применения анализируемой парадигмы, а от содержания господствующей в государстве политической воли либо от ее полного отсутствия. Способна ли, с учетом изложенного, замена словосочетания «борьба с преступностью» каким-либо другим выражением автоматически отразиться на содержании и результатах практики уголовного правотворчества и правоприменения, придав ей априори позитивную направленность? Полагаем, что нет.
В-третьих, «борьба с преступностью», обозначая «активную наступательную деятельность путем воздействия на процессы детерминации, обусловливания этого антисоциального явления и применения к лицам, нарушающим уголовный закон, соответствующих мер государственного принуждения»,[192] может осуществляться на самых различных этапах и иметь самые различные векторы реализации. Именно такое, широкоаспектное, понимание борьбы с преступностью давно устоялось на практике; оно охватывает не только пресечение, но и предупреждение криминальной деятельности.[193] Опасения же Н. А. Лопашенко по поводу односторонности данного выражения,[194] основанные на взвешенном и щепетильном подходе к оперированию терминами, носят в большей степени теоретический характер.
Подводя итог рассмотрению этого частного, но принципиального, на наш взгляд, вопроса, считаем, что «борьба с преступностью» является одним из тех терминов, которые наиболее точно отражают функциональную сферу уголовной политики.[195] Увязка же его со всем негативом, который был и есть в практике воздействия на преступность, при полном игнорировании позитивных аспектов по меньшей мере несправедлива, а по сути – неверна. Поведенческие установки формируются не словами и выражениями, а людьми. Поэтому главное – как, кстати, впоследствии отмечает и С. С. Восходов, – чтобы в термин «борьба с преступностью» вкладывался соответствующий смысл,[196] адекватный времени, возможностям и содержанию уголовной политики.
Далее.
Раскрытие содержания рассматриваемого признака обязывает автора вступить в дискуссию, которая ведется в науке в связи с определением объекта уголовной политики.
Наряду с преступностью, чаще всего наделяемой соответствующим статусом, объектом уголовной политики признаются: иные общественно опасные поступки, непреступные правонарушения,[197] причины и условия (детерминанты) преступности,[198] органы, осуществляющие борьбу с преступностью, а также деятельность этих органов.[199]
Мы придерживаемся традиционной позиции и рассматриваем в качестве объекта («то, что противостоит субъекту в его предметно-практической и познавательной деятельности»;[200] то, на что эта деятельность в конечном итоге направлена) уголовно-политического воздействия преступность. Будучи наиболее опасным видом антисоциального поведения и требуя применения самых суровых мер государственного принуждения, она не является однородным образованием, а представляет собой богатейшую палитру криминальных красок – преступлений, отличающихся друг от друга объектом посягательства, характером и степенью общественной опасности, особенностями детерминации. Следовательно, задача уголовной политики сводится к обязательному учету всего многообразия общественно опасных и уголовно-противоправных проявлений, а равно причин и условий их возникновения, с выработкой на этой основе такого механизма противодействия преступности, который будет сопровождаться дифференцированным подходом к определению формы и содержания мер государственного реагирования.
Признание преступности объектом уголовной политики вовсе не означает, что государству противостоит некая монолитная стена, единое и неделимое целое, борьба с которым может и должна вестись исключительно на глобальном уровне и во всеобъемлющем масштабе. Разумеется, это не так. Противодействие преступности становится возможным только благодаря принятию мер по обеспечению уголовной ответственности за совершение конкретных преступлений и устранению причин, порождающих криминальное поведение.[201] В этом смысле и отдельные преступления, и детерминанты[202] преступности – «акты данности объекта (преступности. – Е. К.) в переживании»[203] – приобретают значение предмета уголовно-политического воздействия: оказывая воздействие на него, мы воздействуем на преступность в целом.
Что касается предложения ряда авторов о включении в объект уголовной политики иных – непреступных – видов отклоняющегося поведения, то оно не может найти одобрения в рамках настоящего исследования в силу, опять же, сложившегося у автора «узкого» подхода к пониманию уголовной политики.[204]
Не являются, по нашему мнению, объектом уголовно-политического воздействия и органы, осуществляющие борьбу с преступностью, и, тем более, деятельность данных органов. Если первые относятся к числу субъектов, то последняя представляет собой одну из форм реализации уголовной политики.
Подводя итог рассмотрению первого выделенного нами признака, необходимо отметить, что, определяя вектор уголовной политики, он способствует созданию предельно выдержанной и логически обоснованной системы представлений об изучаемом явлении, что отражается в формулировании целей и постановке задач уголовной политики, в установлении круга субъектов ее реализации, в выработке механизма уголовно-политического воздействия на преступность.
2. Уголовная политика основывается на объективных условиях развития общества.
«Политическое» название какого-либо феномена уже само по себе свидетельствует о том, что он не относится к числу сугубо теоретических (так называемых «книжных») категорий: расстановка политических акцентов всегда сопровождается максимальным приближением к процессам, протекающим в той или иной сфере общественной жизни.
Свойственно это и уголовной политике, достижение цели и решение задач которой с необходимостью предполагает их правильную постановку с учетом реальных потребностей общества в сфере борьбы с преступностью на конкретном историческом этапе. Выявление соответствующих потребностей возможно «лишь на базе широкого фактического материала»,[205] вбирающего в себя результаты изучения состояния и тенденций криминализации общественных отношений, анализа всей совокупности криминогенных факторов, а также прогноза развития криминальной ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу. «Без подобного познания действительности… – как справедливо утверждал еще А. Фейербах, – явится неизбежной чуждая реальной почвы фантастика, а уголовные политики опустятся на степень поверхностных умствователей, пустых прожекторов».[206]
Располагая необходимой информацией, уголовная политика способна определить приоритеты в области борьбы с преступностью и избрать для ее осуществления такие средства и методы, которые будут адекватны уровню, масштабам и формам проявления криминального поведения.[207]
Важно при этом отметить, что процесс социального обусловливания уголовной политики является непрерывным, позволяя рассматривать ее в качестве индикатора:
а) перемен, происходящих в различных сферах жизнедеятельности общества и сказывающихся в конечном итоге на криминальной обстановке в государстве. В отличие от уголовного права, которое «не всегда соответствует быстро меняющимся условиям общественной жизни»,[208] уголовная политика, в силу своей гибкости и динамичности, оперативнее реагирует на необходимость корректировки антикриминального курса;
б) результативности мер, применяемых в рамках воздействия на преступность. Избранные средства и методы борьбы с преступностью не всегда оправдывают ожидания, а потому подвергаются постоянному уголовно-политическому мониторингу. Если та или иная мера уголовно-правового характера не доказала своей эффективности в деле борьбы с преступностью, она подлежит исключению из арсенала уголовной политики и/или замене новым инструментарием.
Завершая рассмотрение данного признака, следует отметить, что отражение уголовной политикой объективных условий развития общества не ограничивается формированием установок противодействия преступности на общегосударственном уровне. Оно получает свою дальнейшую конкретизацию применительно к особенностям различных субъектов Федерации.[209] Нельзя, к примеру, отрицать, что довольно специфичной является криминальная ситуация в таких регионах, как Астраханская область, Республика Карелия, Приморский край – значительную долю в общей структуре их преступности занимают посягательства на экологическую безопасность; республики Северного Кавказа – на их территории больше, чем где бы то ни было, совершается преступлений против общественной безопасности. Вывод очевиден: региональные особенности преступности самым непосредственным образом предопределяют содержание уголовного правоприменения субъектов РФ.
3. Целью уголовной политики является максимально возможное снижение преступности.
Тезис о принципиальной невозможности искоренения преступности если и нуждается в осмыслении, то лишь для ориентации исследователя на максимальное приближение к результату, в достижении которого еще двадцать с небольшим лет назад не сомневался ни один отечественный ученый, – к ликвидации, уничтожению, истреблению проявлений криминального характера.
На сегодняшний день направленность уголовной политики общепризнанно связывается с необходимостью снижения преступности. Это может выражаться в приведении к минимальным показателям состояния и уровня преступности (в целом и отдельных ее видов), в уменьшении степени криминальной интенсивности, в оптимизации структуры преступности путем достижения «выгодного» государству соотношения категорий и удельных весов образующих ее элементов.[210]
4. Реализация уголовной политики предполагает применение уголовно-правовых средств и методов.
Борьба с преступностью осуществляется путем использования самых различных средств и методов, неоднородный характер которых породил многообразие научных мнений об объеме уголовно-политического воздействия. Достаточно традиционным при этом является выделение понятий уголовной политики в широком и в узком (собственно уголовной, уголовно-правовой политики) смысле слова. В отличие от второго значения, в котором уголовная политика вполне единодушно связывается учеными с применением в деле борьбы с преступностью исключительно уголовно-правовых средств, рассмотрение уголовной политики в широком смысле слова порождает довольно разноречивые суждения. Не останавливаясь на детальном анализе каждого из них, считаем возможным выделить следующие основные позиции:
1) уголовная политика является неотъемлемым компонентом социальной политики государства, а потому охватывает своим содержанием не только специальные меры воздействия на преступность (в различных вариациях – уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, криминалистические, криминологические и др.), но и меры чисто социального характера (экономические, политические, идеологические, культурные и др.);[211]
2) уголовная политика не может сводиться ко всей социальной политике, ибо при таком подходе стирается грань между социальной политикой и уголовной политикой, становится неочевидной специфика последней.[212] В уголовную политику в широком смысле слова должны входить только такие составные элементы, как (опять-таки в различных вариациях) уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная (пенитенциарная), криминологическая (профилактическая) разновидности политики;[213]
3) политика государства в сфере борьбы с преступностью, включающая в себя всю совокупность правовых и общесоциальных средств противодействия преступности, содержит в качестве одной из своих подсистем уголовную политику в широком смысле слова (в нее, в свою очередь, входят уголовно-правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, криминологическая, криминалистическая разновидности политики).[214]