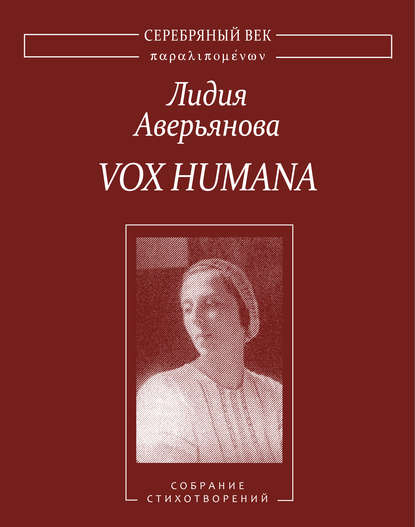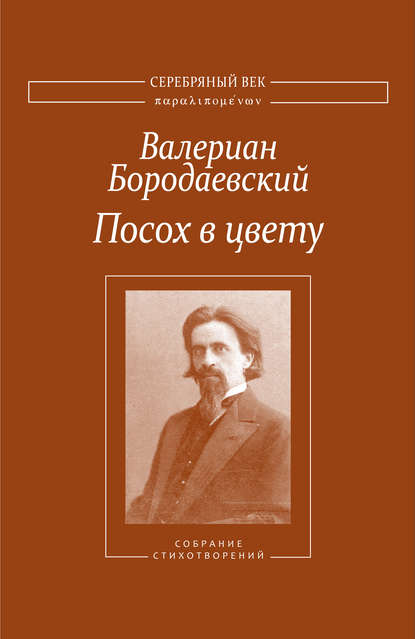Сочинения русского периода. Стихотворения и переводы. Роман в стихах. Из переписки. Том II

Полная версия
Сочинения русского периода. Стихотворения и переводы. Роман в стихах. Из переписки. Том II
Жанр: биографии и мемуарыстихи и поэзиярусская поэзияпоэтическая традициярусская эмиграциябиографии поэтовпереводческая деятельностьсерьезное чтениеcтихи, поэзия
Язык: Русский
Год издания: 2015
Добавлена:
Серия «Серебряный век. Паралипоменон»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
431. Самосознанье (Оно пришло из серца: по ночам я…)
2Оно пришло из серца: по ночам я чувствовал движенье где-то там; шаги вокруг – без роста приближенья, как будто кто-то тихо по кругам бродил, ища свиданья или мщенья. Как пузырьки мгновенные в пене́, сжимая вздувшись пульс под кожей в теле. Всё недоверчивей я жался в тишине к тому, что́ дышит на весах постели. Потом и днем его машинный ритм стал разрывать мелодию быванья и марши мнений.Только догорит днем утомленное от встреч и книг сознанье, и только вдоль Господнего лица зареют звезды – пчелы неземные, и с крыльев их посыпется пыльца в окно сквозь пальцы тонкие ночные, – я в комнате лежу, как тот кокон, закрытый школьником в табачную коробку, а дом живым дыханьем окружон, вонзившийся как диск в земное топко; и сеются по ветру семена, летят, скользя, в пространство эмбрионы, сорятся искры, числа, имена и прорастают, проникая в лона.—Дрожит небес подвижный перламутр, растут жемчужины в его скользящих складках.Черты земли меняются в догадках – по вечерам и краской дымных утр.Здесь, в сонных грезах космоса, сознанье нашло облипший мясом мой скелет – под мозгом слова хрип и клокотанье, в зрачках, как в лупах, то туманный свет, то четкие подвижные картины (над ними – своды волосков бровей, внизу – ступни на жостких струпьях глины), и гул, под звуком, раковин ушей.Как сползший в гроб одной ногой с постели вдруг замечает жизнь на самом деле, – я, сотворенный вновь второй Адам, открытый мир открыть пытался сам: под шелухой готового привычки искал я корни, забывая клички, чтоб имена свои вернуть вещам.От пыльного истертого порога я паутинку к звездам протянул, чтоб ощущать дрожанье их и гул – и возвратил живому имя (: «Бога»).—Следила, как ревнивая жена, за каждым шагом, каждой мыслью совесть. С улыбкой выслушав неопытную повесть о прошлом, сняла крест с меня она. Ее любимца, строгого Толстого я принял гордое, уверенное слово и слушал эхо вызова: семья!.. там, где броженье духа и семян.Но, снявши крест, не снял личину тела: по-прежнему под пеплом мыслей тлела уродец маленький, запретная мечта, напетая из старой старой песни, где муж снимает брачной ночью перстень, спасая девственность в далекие места. И под ее таким невинным тленьем вдруг пламя вспыхнуло со свистом и шипеньем.432. Однажды вечером у нас в гостях…
3Однажды вечером у нас в гостях, на слабость жалуясь, от чая встала дама и прилегла на мой диван впотьмах, как бережно ей приказала мама.Уже на днях случилось как-то так, что стали взору непонятно милы в ней каждый новый узнанный пустяк – то шаловливое, то скорбное лицо, давно на пальце лишнее кольцо и светлое – для близких имя – Милы.Когда чуть бледная, прижав рукой висок, она на свет допить вернулась кружку, – тайком к себе переступив порог, я на диван согретый ею лег лицом в душисто теплую подушку. И, прижимаясь нежно к теплоте и волоску, щекочащему тело, я в первый раз в блаженной темноте был так приближен и испуган ею.—Ряд продолжающих друг друга длинных встреч, не конченных досадно разговоров; обмолвки, стыдные для краски щек, не взоров, и в близости, вне слов, вторая реч.Однажды понял я, как жутко неизбежно то, что скрывается под этим зовом нежным похожих мыслей, безмятежных дней; сравненье жизней, наших лет – во всей пугающей несхожести раскрылось, и на минуту мысль моя смутилась…433. Войди в мой Дом, чтоб отделили двери…
Войди в мой Дом, чтоб отделили двери от непонятного. С тобой одной вдвоем в словах и ласках, зная или веря, забыть и том, что окружает дом!Сквозь закопченные зарей и тленьем стены, закрытые весной листвой колонн, следить цветов и формы перемены и слушать птиц волнующий гомон.Когда лучи поймают паутиной и безмятежно жмешься ты ко мне, – мне кажется, с полей, размытой глиной свет приближается опять в цветущем дне.Гораздо тише, ласковей и проще целует волосы когда-то страшным ртом – показывает пастбища и рощи, и капли в сердце маленьком твоем.434. Пылинка – я в начале бытия…
Пылинка – я в начале бытия, оторвано от божьей плоти звездной, комком кровавым полетело в бездну, крича и корчась, корчась и крича. Там, падая, моргая изумленно, онокружилось, различая сны, пока к нему из темноты бездонной Бог не приблизил звездной тишины. Как пчелы жмутся на рабочем соте, к соскам – дитя, и муж – к теплу жены, как пыль к магниту, я прилипло к плоти приближенной великой тишины. Сквозь корни, вросшие в божественные поры, в нем стала бродить тьма – господня кровь! Оно томилось, открывая взоры и закрывая утомленно вновь.Так, шевелясь и двигаясь, томится, и утомится трепетать и прясть – окончив двигаться, в господнем растворится, господней плоти возвращая часть.435. Днем я, наполненный заботами и страхом…
Днем я, наполненный заботами и страхом за пустяки мелькающие дня, спокоен, зная, что за тихим взмахом дверей в своей светелке – жизнь моя:в капоте – жолтом с белыми цветами —, с ногами в кресле бархатном сидит, недоуменно ясными глазами за мной сквозь стены мысленно следит.На мне всегда ее любви дыханье, и каждый миг могу, оставив путь, придти к ее теплу и трепетанью и в складках платья мягких отдохнуть!436. ещо в палаццо захолустном…
22ещо в палаццо захолустномсреди кирпичных колоннаднад плакальщицей меловоюих сверстник лиственный шумитгулявшие на перевалегуманистических эпохчто думали они о ветхихтиранах и своих грехах437. Песня (журавлиный грай колодца…)
2журавлиный грай колодцапеснь и дым с туманом вьетсяскрипучи колесавдоль крутого плесав плесе месяц сучит космыот ветра белесыймилозвучны и речистыв поле чистом косыскачет в поле жеребецс взъерошенной шерстьюпри дороге спит мертвецсиротливой перстью438. Полевой отшельник (в рубахе красной и портках исподних…)
4в рубахе красной и портках исподнихбосой стопой в огне колючем травс почти безумным взглядом отвлеченьездесь в заточеньи полевом живетиз ворота – седой крапивный мохна корточках в кирпичный кладень дуетна очажок где пляшут саламандрывкруг котелка с крапивною похлебкойсредь заржавелых проволок щипковв окопной сохранившейся землянкеарабский аристотель птоломейвойна заглохшая и – философский каменьв ту пустынку друг отшагал землейволнующейся синими холмамии юные венком седины другаобветрокрасных щок и лба вокругрукой квадратной красной и распухшейв борьбе с пространством мыслью и ветрамиюнец из рук учителя береттайн олицетворенную колодуи сверху вниз протянуты три связииз ока неба: к другу в землю в грудьотшельника – три жолтые от краскисместившейся в наузах-узелках439. без малого ровесник веку…
30без малого ровесник веку,кто верил в мир, а жил в грозе,я видел гордый взлет машин,а после – страшное их дело.Но что забавней: пустотаи в и вне, и в том, что между:в самом усталом глупо телеи есть ли кроме что ещо!И на земле война: стреляютна улицах, а на столбепри свете спички ищут имяприговоренного на снос440. Сын Филимона (силлабические стихи)…
81с пчелиных крыльев: адапредвеет заразанадежда теней вечныхфилимону – ласкибелый лоб филимонаплатками повязандикий лик филимонабелее повязкивойною полноводнойкровью вихрем громомсбитый лист несся полемдорогой ночною:некогда филимонукровней чем бавкидаоткрытка пала вестьюв ящик над паромомне окрыленной вестью —как смерть жестяноюсын мой дальний и блудныйбез крова и вида441. Polonia (птицы – рок налетают…)
2птицы – рок налетаютмечут гром железныйстай не пугает солнцеи синий свод взорванполдень мрачнеет дымомночь стала беззвезднойв Польше черно от крыльевлавр Норвидов сорванон валялся в дорожномпрахе где хромаяшол офицер с повязкойопустивши векинад дорогою вылата стальная стаяон же шептал не слыша:навеки навекив Люблин спасая рифмыо измене ники —глупой девы победы —Чехович орфеемзаблудившейся бомбойна части размыкана под лесом Виткацыс заплаканным ликомгде в глинке перстной слезычернели хладеябритвой заката мерилглубь смертной затеи442. Облачный город (град драконом змеится…)
3град драконом змеится:у лавок – хвостамисандалий деревянныхстуком легким полнясьтак поэта когда-тодосочки стучалитак змеится сияньемобмирая полюсголод ненависть морывсе все бе вначалена ремешки сандалийизрезан твой поясот облака сверкаябомбовоз отчалилно древним культом мертвыхтравянится полезачатья агониивновь хлеба насущнейхлеба нет и избытоквещих снов числ мыслейпрозрачней ключа речьюопасность несущейстали стихи: как птицыоперясь и числяголубь их из ковчеганад чорною Вислойпрокрылил бесприютныйнад потопной сушей443. Поэту (негодующей тенью…)
4негодующей теньюсливая ладониропотом песен землюи смертность ославивдойдя до дня позорав безумья оправена стола бесприютномпростерся он лонев тьме бетховенской маскойоглохшею тонет:точно слышит в бессмертьяи гармоний правепраху слышные громыо посмертной славечей перст костлявый большезвуков не проронитдух проносится в военкосматые вои:над нишами двух крестныхглубоких подлобийнад усопшей последнейнесвязной строфоювеков нелюбопытныхпогасшей в утробеи понурые стражибредовые воисторожат чтобы перстностьне встала во гробе444. по свету розлетелась вата…
по свету розлетелась ватаслежавшихся за рамой тучлюбовь весною синеватакак в кровь раздавленный сургуч(во сне).Варианты
76. Среди моря полей холмистого…
Среди моря полей холмистого встретил Миша Милу Алексеевну.Улыбнулась приветно его молодости – до самого сердца вожглась улыбкой.Под кумачами зорь, под парчами ночей, над бархатом зеленым лугов —смущала его Мила Алексеевна, целовала его поцелуйчиками.Точно пчелка ее губы возле губ его увиваются. И однажды стала и ужалила.Говорит ей Миша восторженно: «Нынче будет великий день – записать его надо и праздновать —: Огонь-небо сошло на меня, Огонь-небо взорвало небеса, и случились со мной чудеса. – «Ничего мне в жизни больше не надо; ничто меня в жизни не прельстит – не очарует, кроме света духовного. – Познал я сегодня смерть.«Открой, Мила Алексеевна, свою шею нежную, вынь за пазушки теплый серебряный крест – «здесь же хочу ему помолиться, к нему приложиться, ему посвятиться, с тобой ради него проститься. Хочу из мира уйти».Улыбнулась Мила Алексеевна Мишиной ребячливости. А Миша впрямь становится холоден – от людей затворяется, молится, лампаде кланяется, с грехами борется, с чертями в чехарду играется.Умирают люди, рождаются, на разные дни пасхи приходятся, улицы с лица меняются. Миша больше ночами не молится: у него больше грехов не находится. Далеко до неба, к аду близко.Тучи над полями пустынными низко. Сходит Миша в поля, дышит Миша полями; ложится на травы прошлогодние, к небу руки протягиваются. Горло сжимается, слезы из глаз текут. Слезы в траву падают. Где слеза упадет – цветок расцветет, голубой как кусочек неба.Расцветает, тянется к небу, как в море капелькой, а жизни ему один день – не дотянется, свянет, сморщится. А на месте его новым утром уж новый цветет. И так до поздней осени. Не сорвать его, как человечьей души, не вложить в букет, как печали. Зовут его Петровыми батогами – цикориев цвет.Вернулся Миша к сонцу – человечеству.Бродит полями. От мысли пугается, от мысли встретить там Милу Алексеевну.Да нет ее, не находит.Только во сне видится лицо ее, только в памяти сквозит она, по-прежнему – ясная.По лугам, по пустырям: разные травы от ветра мотаются, качаются, дрожат, шевелятся. Острые – шершавые пригибаются.Коварные – ползучие, точечки-сережки-кружевные дрожат, перепонки колючие татарника шевелятся. Разорвалось небо огненное, занялись руна облачков – бежит объятое пламенем стадо, клочки шерсти разлетаются, горя, – на луга, на травы. Раскрывает объятия заря, погружает в свое тело – свои ароматы.От счастья застывшая земля оглупевшая, бледная, смежила черные ресницы в обонянии страсти; трепещет, поворачивается, погружается в счастливый сон.Две слезинки – две звездочки копятся, загораются, стекают по матовой коже неба.Страсть у дня вся выпита; разжимаются руки сквозиться,руки – белые облачки, опадают вдоль лесов, вдоль покосов. Вырастает пропасть черная между грудей земли и неба.«Травы! Росы! По пустырю, из колючих татарников не стыдно мне подглядывать ласки заревые земные-небесные. Мне обидно, жутко, за́видно.«Росы! Травы! мои следы целуете! Мне одиноко».Кто-то ходит, кто-то плачет ночью.Моет руки в росах, моет, обрезая травами.Жалуется: «Никому больше не пришлось мое сердце, никого больше не видят мои глаза, никто больше не сожжет мое тело.«Травы! Ваши цветы над землею с ветрами шепчутся; всем открыты, названные, известные; ваши корни тянут соки земные пресные.«Не слыхали вы чего о Миле? Моей ясной, теплой, единственной?»Шепчутся травы, качаются; с другими лугами, с хлебами переговариваются, советуются. Сосут молча землю, грозят пальцами небу прозрачному. Думают, перешоптываются, сговариваются, как сказать,как открыть истину: что давно могила раскопана, давно могила засыпана, осталось пространство малое, где доски прогнили – комочки земли осыпаются от шагов человеческих, от громов небесных.Екнуло что-то в земле и откликнулось.Прошумела трава.Веют крылья – ветры доносятся.С пустыря через колючие заросли кличет Мишино сердце предчувствие в дали ночные – глубокие. Свищет ветер в ложбину, как в дудочку, зазывает печали, развевает из памяти дни одинокие, высвистывает.Черной птицей несут крылья воздушные, вертят Мишу по полю – полю ночному – серому.Глазом озера смотрит ночь, шевелит губами-лесами черными. В ее гортани страшное слово шевелится:Xha-a-ah-xha-с-с-смер-ерь —слушает Миша, отвечает ночи: «Что ты меня пугаешь, ночь, стращаешь-запугиваешь?«Разве я мотыль однодневка? Я не видел, как зори меняются, не слышал, как дни рождаются? Сколько дней-ночей на моей памяти!»Конвульсивно дышит ночь, с трудом выговаривает: «Xha-a! Дни и ночи на твоей памяти! А сколько жизней на твоей памяти? Человек родится состариться. Когда человек обновляется? Куда память о нем девается?»«Что ты меня стращаешь, ночь, морочишь-запутываешь. Разве я зеленый юноша? Давно разные мысли замечены, кровью ответы отвечены, горем уроки пройдены».Ахнула ночь, покатилася. Око ночи в озеро-лужицу превратилось, пьяные губы ночные – в лес.Очутился Миша под книгой небес, ее звездными страницами, где сосчитано истинное время, установлена единственная жизнь. Две слезинки навернулись. Звезды лучиками протянулись – посыпались серебряным дождем.Весь пронизанный голубым светом, весь осыпанный звездным снегом, стоит Миша и видит чудо необычное: Разбегаются холмистые леса, раскрываются земные телеса, из мглы улыбается лицо – милое, знакомое – неподвижной застывшей улыбкой —: «Возвратился, мальчик! Да и я тебя не забыла: о тебе все думала,предвидела; о тебе позаботилась. «Чтобы понял ты скорей других: для чего жизнь нам отмеряна, на что сердце отпущено, зачем глаза даны;«Чтобы ты не покидал дорог, чтобы правду и себя найти мог, устранила я единственный соблазн: положила в землю мое тело жадное.«Так-то лучше с тобой говорить, так спокойней тебя наставить. «Погляди, какая ночь прекрасня! «Ощути свое живое тело. «Ты вернись сейчас в свою комнату; помолись, в постель ложись. Я тебя тепленько укутаю, над тобой песенку спою, чтобы глазки твои слаще стали, сердечко лучше отдохнуло, успокоилось —: будет горе, а будут и радости».209. Не научившись быть вполне земным…
Не научившись быть вполне земным,я не умею быть еще жестоким.Мои слова оглушены высоким,неуловимым, тающим, как дым.На этот кров – наш шаткий тесный дом —не ринутся слова мои обвалом, —хотят светить прозрачнящим огнем,возвышенным в униженном и малом.Горевшее то тускло, то светло,косноязычное от сновидений тело,ты никогда справляться не умелос тем, что в тебе клубилось и росло.И вот, теперь молитвою-стихами,чем до сих пор преображались мы,как рассказать о том, что нынче с нами:о этих камнях и шатре из тьмы,о радости дыхания ночного,о непрозрачном, теплом и простом,о близости телесной, о родном…Как воплотить в комок кровавый слово!211 а. Эмигрантская поэма
Для глаз – галлиполийских роз,сирийских сикомор венки…Но жалит в ногу скорпиономэдема чуждого земля.Здесь чуждый рай, там ад чужой:стозевный вей, фабричный пал…На заводских покатых нарахи сон – не сон в земле чужой.Раб – абиссинский пьяный негр,бежавший с каторги араби ты – одним покрыты потом…и хлеб – не хлеб в земле чужой.Черства изгнания земля…Пуста изгнания земля…Но что считает мир позором,то не позор в земле чужой.Вы, глыбы непосильных нош,ты, ночь бездомная в порту,в вас много Вечного Веселья —Бог – только Бог в земле чужой.{2}IВ пределах черных Сомали,в Париже, Праге и Шанхаеон, черный горечью землии потом пьяный, мирный парийв Напоминанья час и деньс семьей за чистый стол садится– когда есть стол, семья и сень! —за ним трапезовать – молиться.Здесь раб для мира – господин,воскресший дважды – трижды в сыне.И тихо спрашивает сын,уже рожденный на чужбине– дитя, великого росток,дитя, великая надежда,но смирен, хил и бледноок,пришедший и возросший междувеликих лет, всегда один,с самим собой в игре и плаче —и тихо спрашивает сын:«отец, что этот праздник значит?»И слышит сын ответ отца,необычайно и сурово —от измененного лицанеузнаваемое слово:«Мой друг! привык ты называть,всю жизнь скитаясь вместе с нами,нас – двух людей – отец и мать:увы! не теми именами.Но знай теперь; твой род высок,ты вовсе сын не человека.Отец твой это он – наш Рок,дух жатв таинственного века.А Мать твоя – не смею япроизносить такое имя! —Отчизна наша – мать твоя.В небытии… в разделе… в дыме…Но за ее высокий часвозмездья или воскресеньяпроходим мы теперь как раздень казни нашей, день плененья;как сон, проходим пустоту,скитанья в мире и раздумья.Храним безмолвную мечту,блюдем смиренное безумье…»{3}Первая1Все богоделанно в природе:богорасленные сады,плакущей ивой в огородеукрыты нищие гряды;мироискательные водыу пастбищ мирное гремят;кровосмесительные годыотходят дымом на закат;звуча распевно, полноречно,сгорает купола свеча.И человеку снова вечнов дороге пыльной у ключа.Как можно было в этом миреслезонеметь, кровописать,где в среброоблачной порфирелуна на небе, как печать,над ночью черною блистает;где белокрылые садыметелью летнею слетаютв обвороженные пруды;где златоогненная благостьвеликолепствует и жжет,где загорает смугло нагость:блаженный в праздности народ!В веках таинственней, чудеснейсамозабвенный мир твердитвсе те же пьянственные песни,ильнее возгласов обид.И самовидец дней жестоких,былинки тростью шевеля,блуждает в мире долуокихи видит в первый раз: земля!Неисследима коловратностьбезумных лет. Где явь? где сон?И на судеб земных превратность,очнувшись, жалуется он.Вот между белыми камнямилучами высушенных плитзеленой ящерицы пламяиз трещин пористых сквозит.Спешит согреться и не слышитударов трости по плите:так мелко, задыхаясь, дышит,прижавшись к камня теплоте…И узнает в себе он этунечеловеческую страсть:к окаменяющему свету,дыханьем только став, припасть.2Рассыпан пепел, чай расплескан,с цепей сорвались голоса —с ожесточением и трескомпод кров политика вошла.Во имя блага ненавидя,кричат, встают… лишь он один,как воскрешонный Лазарь, видитповерх смятенных лбов и спин.И мыслит: где найдет такуювершину мирный человек,куда не доплеснет, бушуя,кровокипящим кубком{4} – век!Не это крайнее кипеньеумов – и знаменье и страсть! —не дерзость мысли, но смиренье —геройства праведного часть.Теперь герой, – кто здесь селится:на погребе пороховом,взорваться или провалитьсяготовом, строит шаткий дом;кто на неверной почве зыбкой —на черном порохе земномвстречает путь лозы улыбкойи знает мудрое о нем.3«Пятнадцать лет тому могли мыеще ждать чуда…» – и умолк.Восходят облачные дымыот папирос на потолок.Рука с дымящей папиросойравняет новый веер карт.«Все это древние вопросы,а на дворе – который март?»И карты меткие взлетаютнад душной пылью меловой,и марты лет пустых блуждаютпустыней людной мировой.Но вот, из воздуха азартаневольный бражник и игрок– еще в глазах летают карты —вздохнуть выходит на порог.Расстегнут ворот, дышит тело– плоть распаленная – теплом.А в мире за ночь побелело:овеян белый сад и дом.Упорный ветер охлаждаетмедь раскаленных щек и век.И по полям ночным блуждаетодин, в раздумьи, человек.4Отсюда, с кладбища чужоговидна граница. Часто онследит дорогу часового,земной прорезавшую сон.То, что стремится стать всемирным– всепотопляющий прибой —теснится вех чертою мирной —воздушнокрепкою стеной.Взлетев, дымятся стайкой птицы,ползет оратай вдоль оград…Но в полночь гулок мир границы,в тумане выстрелы звучат.От плошки огненного флага,зигзагом вех, змеей брегов,болотом, где темнеет влага…он изучать ее готов,и в сизый дым лесов за нею,облокотясь о влажный склонхолма могильного, бледнея,он неподвижно погружон.От безответной, недвижимой,широкотлеющей странывосходят облачные дымынеопалимой купины.Вторая1Порой сойдутся обвинитьдруг друга – в прошлом, настоящем:кого теперь боготворитьи чем гордиться – говорящим!Порою вспомнят времена —те героические годы…пересчитают имена,могилы братские свободы.Но с каждой новою весной,осенней черной годовщинойбесстрастней говор круговой —бледнеют доблести и вины.Все чаще хочется неметь —судьба все глуше, неизвестней…и души просятся допетьтогда лишь сложенные – песни.Все неизбежней для живыхпоследнее предначертанье:не дом, но мiр – не мир, но вихрь:судьба и выбор и призванье.2О вы, снесенные листы!Что́ бурей сорванные птицы!Мететесь в шумные портыи европейские столицы.Что им до ваших крыл – и такземля в разливах душ и кликах! —до ваших трой или итак,крушений, подвигов великих…Им ничего не говорятсудьба и опыт побежденных.Еще и трои не горят,моря не кличут разоренных.И только новый одиссейзанять бы мог рассказом длиннымо древних ужасах морей,о поднебесии пустынном;о перейденных им словах,о передуманных им лицах;о тюрьмах, трюмах; о мешкахне там ли груженной пшеницы;о аде доменных печей,легчайших душах – клубах пара;о тьме пастушеских ночей,о черном поте кочегара;мечтах под грузом портовымв Марселе, Фриско,{5} Санта Лючье,о царской гордости своимвеликим неблагополучьем;средь возмущений и речей,опять колеблющих народы, —о новой мудрости своейбезмолвной мысленной свободы.С холмов калипсиной страны{6}над понтом па́дыма и макаему отчетливо видныхолмы соседнего – итака!Но сколько странствий и морейего от дома отделяет!Пусть виден дом, как Одиссейк нему дороги он не знает.3Зыбь – половицы. Громов бой.О сердце, в стекла – крест нательный.Нарушен утренней грозой,расторгнут – тесный мир постельный.Гудит металл – громовый стон.С ним голос тайного смущеньяв бессонном духе соглашен.Ревет ветвей вихревращенье.Где гибнет в выстрелах душа,где буря космы косит векам, —дыханьем огненным дыша,несутся с кликами и смехомОсвобожденные от Пут,метутся, скачут, сотрясают, —глазницы яростью сверкают,бросают молнии и жгут.А в этих сотрясенных стенах —дыханье детское жены,гуденье сонной крови в венах,броженье мысленное – сны;всю ночь первоначальным полнытела, забывшие века;дыханья медленные волны,на них уснувшая рука.То – зыбь над бездной затаенной– застынь – не мысль – полудыши! —то бред и жалость полусоннойполуживой полудуши.И днем, когда умы и душине так уж мирны, как тела,когда им кажется – на сушеих совершаются дела, —восхищен мысленным виденьем,ночную с демонами браньдух вспоминает и – волненьеколеблет жизненную ткань.Не так легка за эту жалостьк дыханью смертному – борьба.Совидцу грозных дел осталасьсновидца зыбкая судьба.211 в. Эмигрантская поэма
Для глаз – галлиполийских роз,сирийских сикомор венки…Но жалит в ногу скорпиономэдема чуждого земля.Здесь чуждый рай, там ад чужой:стозевный вей, фабричный пал…На заводских покатых нарахи сон – не сон в земле чужой.Раб – абиссинский пьяный негр,бежавший с каторги араби ты – одним покрыты потом…и хлеб – не хлеб в земле чужой.Черства изгнания земля…Пуста изгнания земля…Но что считает мир позором,то не позор в земле чужой.Вы, глыбы непосильных нош,ты, ночь бездомная в порту,в вас много Вечного Веселья:Бог – только Бог в земле чужой.IВ пределах черных Сомали,в Париже, Праге и Шанхаеон, черный горечью землии потом пьяный, мирный парийв Напоминанья час и деньс семьей за чистый стол садится– когда есть стол, семья и сень! —за ним трапезовать – молиться.Здесь раб для мира – господин,воскресший дважды – трижды в сыне.И тихо спрашивает сын,уже рожденный на чужбине– дитя, великого росток,дитя, великая надежда,но смирен, хил и бледноок,пришедший и возросший междувеликих лет, всегда один,с самим собой в игре и плаче —и тихо спрашивает сын:«отец, что этот праздник значит?»И слышит сын ответ отца.Необычайно и сурово —от измененного лицанеузнаваемое слово:«Мой друг! привык ты называть,всю жизнь скитаясь вместе с нами,нас – двух людей – отец и мать:увы! чужими именами.Но знай теперь: твой род высок,ты вовсе сын не человека.Отец твой это он – наш рок,дух жатв таинственного века.А мать твоя – не смею япроизносить такое имя! —Отчизна наша – мать твоя.В небытии… в разделе… в дыме…но за ее высокий часвозмездья или воскресеньяпроходим мы теперь как раздень казни нашей, день плененья;как сон проходим пустоту,скитанья в мире и раздумья.Храним безмолвную мечту,блюдем смиренное безумье…»Первая1Все богоделанно в природе:благорасленные сады,плакущей ивой в огородеукрыты нищие гряды;мироискательные водыу пастбищ мирное гремят;кровосмесительные годыотходят дымом на закат;звуча распевно, полноречно,сгорает купола свеча.И человеку снова вечнов дороге пыльной у ключа.Как можно было в этом миреслезонеметь, кровописать,где в среброоблачной порфирелуна на небе, как печать,над ночью черною блистает;где белокрылые садыметелью летнею слетаютв обвороженные пруды;где златоогненная благостьвеликолепствует и жжет,где загорает смугло нагость:блаженный в праздности народ!В веках таинственней, чудеснейсамозабвенный мир твердитвсе те же пьянственные песни,сильнее возгласов обид.И самовидец дней жестоких,былинки тростью шевеля,блуждает в мире долуокихи видит в первый раз: земля!Неисследима коловратностьбезумных лет. Где явь? где сон?И на судеб земных превратность,очнувшись, жалуется он.Вот между белыми камнямилучами высушенных плитзеленой ящерицы пламяиз трещин пористых сквозит.Спешит согреться и не слышитударов трости по плите:так мелко, задыхаясь, дышит,прижавшись к камня теплоте…И узнает в себе он этунечеловеческую страсть:к окаменяющему свету,дыханьем только став, припасть.2Рассыпан пепел, чай расплескан,с цепей сорвались голоса– с ожесточением и трескомпод кров политика вошла.Во имя блага ненавидя,кричат, встают… лишь он один,как воскрешонный Лазарь, видитповерх смятенных лбов и спин.И мыслит: где найдет такуювершину мирный человек,куда не доплеснет, бушуя,кровокипящим кубком – век!Не это крайнее кипеньеумов – и знаменье и страсть! —не дерзость мысли, но смиренье —геройства праведного часть.Теперь герой, – кто здесь селится:на погребе пороховом,взорваться или провалитьсяготовом, строит шаткий дом;кто на неверной почве зыбкой —на черном порохе земномвстречает путь лозы улыбкойи знает мудрое о нем.3«Пятнадцать лет тому могли мыеще ждать чуда…» – и умолк.Восходят облачные дымыот папирос на потолок.Рука с дымящей папиросойравняет новый веер карт.«Все это древние вопросы,а на дворе – который март?»И карты меткие взлетаютнад душной пылью меловой,и марты лет пустых блуждаютпустыней людной мировой.Но вот, из воздуха азартаневольный бражник и игрок– еще в глазах летают карты —вздохнуть выходит на порог.Расстегнут ворот, дышит тело– плоть распаленная – теплом.А в мире за ночь побелело:овеян белый сад и дом.Упорный ветер охлаждаетмедь раскаленных щек и век.И по полям ночным блуждаетодин, в раздумьи, человек.4Отсюда, с кладбища чужоговидна граница. Часто онследит дорогу часового,земной прорезавшую сон.То, что стремится стать всемирным– всепотопляющий прибой —теснится вех чертою мирной —воздушнокрепкою стеной.Взлетев, дымятся стайкой птицы,ползет оратай вдоль оград…Но в полночь гулок мир границы,в тумане выстрелы звучат.От плошки огненного флага,зигзагом вех, змеей брегов,болотом, где темнеет влага…он изучать ее готов,и в сизый дым лесов за нею,облокотясь о влажный склонхолма могильного, бледнея,он неподвижно погружон.От безответной, недвижимой,широкотлеющей странывосходят облачные дымынеопалимой купины.Вторая1Порой сойдутся обвинитьдруг друга – в прошлом, настоящем:кого теперь боготворитьи чем гордиться – говорящим!Порою вспомнят времена —те героические годы…пересчитают имена,могилы братския свободы.Но с каждой новою весной,осенней черной годовщинойбесстрастней говор круговой —бледнеют доблести и вины.Все чаще хочется неметь —судьба все глуше, неизвестней…и души просятся допетьтогда лишь сложенные – песни.Все неизбежней для живыхпоследнее предначертанье:не дом, но мiр – не мир, но вихрь:судьба и выбор и призванье.2О вы, летучие листы!Что́ бурей сорванные птицы!Мететесь в шумные портыи европейские столицы.Что им до ваших крыл – и такземля в разливах душ и кликах! —до ваших трой или итак,крушений, подвигов великих…Им ничего не говорятсудьба и опыт побежденных.Еще их трои не горят,моря не кличут разоренных.И только новый одиссейзанять бы мог рассказом длиннымо древних ужасах морей,о поднебесии пустынном;о перейденных им словах,о передуманных им лицах;о тюрьмах, трюмах; о мешкахне там ли груженной пшеницы;о аде доменных печей,легчайших душах – клубах пара;о тьме пастушеских ночей,о черном поте кочегара;мечтах под грузом портовымв Марселе, Фриско, Санта Лючьи,о царской гордости своимвеликим неблагополучьем;средь возмущений и речей,опять колеблющих народы, —о новой мудрости своейбезмолвной мысленной свободы.С холмов калипсиной странынад понтом па́дыма и макаему отчетливо видныхолмы соседнего – итака!Но сколько странствий и морейего от дома отделяет!Пусть виден дом, как Одиссейк нему дороги он не знает.3*Из опрокинувшихся чаштуч дождевых – дымящей влагистолпы бегущие, вдоль чащ —от них кипящие овраги– то пала солнечного вихрь! —и демонов ночные встречи:сквозь зыбь оконную – гул ихвсе приближающейся речи.Их спор – металлом – к рубежамстраны, им отданной, – доносит.Над кем сейчас враждуют там,где буря космы вехам косит,где возле сердца беглецашипят – спеша к пределам – оси,над серой бледностью лицагде пуль граничных вьются осы,и хлябь болотная в кругувихревращенья и восстанья…На этом мирном берегу —священные воспоминанья.Освобожденные от путуже – над кровлей… сотрясают,глазницы яростью пылают,бросают молнии и жгут.{7}А в ими сотрясенных стенах —дыханье детское жены,гуденье сонной крови в венах,броженье мысленное – сны;всю ночь первоначальным полнытела, забывшие века;дыханья медленные волны,на них уснувшая рука.То – зыбь над бездной затаенной– застынь – не мысль – полудыши! —то бред и жалость полусоннойполуживой полудуши.И днем, когда умы и душине так уж мирны, как тела,когда им кажется: на сушеих совершаются дела, —восхищен мысленным виденьем,ночную с демонами браньдух вспоминает, и – волненьеколеблет жизненную ткань.Неотменяемое каройвозмездье – память о веках.И понуждает мыслью вялойон тело к жизни, к делу – страх.Не так легка за эту жалостьк дыханью смертному – борьба.Совидцу грозных дел осталасьсновидца зыбкая судьба.Третья1Мир юн – ему еще данасоблазном бездны – неизвестность.Адаму ветхому нужнаплоть умудренная – телесность.Устал адам от бездн – высот,от – исторических волнений.Но мира нет – его несетпо воле скрещенных течений.То внешний вихрь, то буря изума ли, духа ли – уносит.Остановись! остановись!он мир и дух напрасно просит.И счастлив тот, кто сам избралвихрь внешний: кто среди волненьястихий стремленье предузнал,нашел свое предназначеньеПлывут недвижные мостыполетов головокруженья.Но подчинись волне и – тыуже повиснешь без движенья.Нет неподвижнее часов,когда в продолженном стремленьиуже утеряно мировво-мне и вне сокосновенье.У ног – торопится трава.Плывет – воздушное приволье.Святы пустынные слова:пустынножитье! пустополье.Плавущий дом воздушных рек:меж нёбом место и меж небом, —в нем больший лад, чем злее век,чем человек беднее хлебом.Не мир, но душ созревший строй;не хлеб, но мысленная пища.Пустынножитель! рушь и строй!В уме – миры и пепелища.2Не имена вождей седых,не речи нового витии —пустынножителей такихеще нужны дела России.Когда я с легкостью менялместа и судьбы и заботы, —я часто малых сих встречал,свершавших те же перелеты.Случалось обок с ним стоять,шоссейные трамбуя плиты;случалось вместе с ним таскатьбродячей труппы реквизиты.В часы свободные потомон мне рассказывал спокойноскупым и грубым языкомо вечных подвигов достойном.И если б мог забытых лирсебе эпическую меруямб возвратить – века и мiропять вместить в свои размеры, —я тот рассказ бы передал– геройств и малых дел смешенье —,я б жизни рифмы подсказалк делам грядущим поколений,не дав им перетлеть в уме…В пути с работ на лесопильнемы с ним однажды на холместояли. Помню воздух пыльный,тяжелодымно облакагоревшие… Внизу – реказастывшим омутом блестела.Он одуванчики срывали дул, и по ветру летелаих золотая шерсть. Взлеталклок, опрозрачненный зарею, —чем выше – ярче, и седымскользил сквозь тень. И этот дымя с нашей сравнивал судьбою.Я думал: вей, посевный дух!зерном крылатым самосевалети, несомый ветром пух,пустыней странствия и гнева!Чужая почва, как зола,как камень огненный, бесплодна.Ветров летучие крылашироковейны и свободны.Эскадра душ – их тень, их вей —в последнее четверостишье,туда, где трепетных корнейпосевных жаждет пепелище.май-июнь <1935>