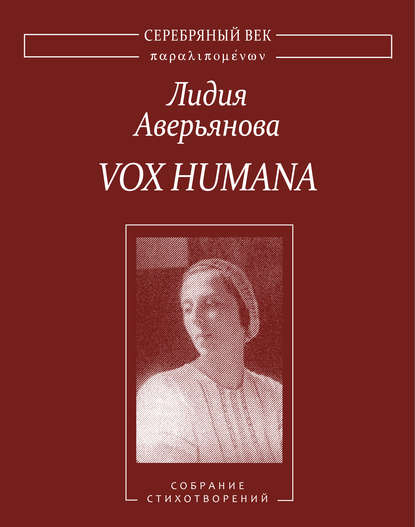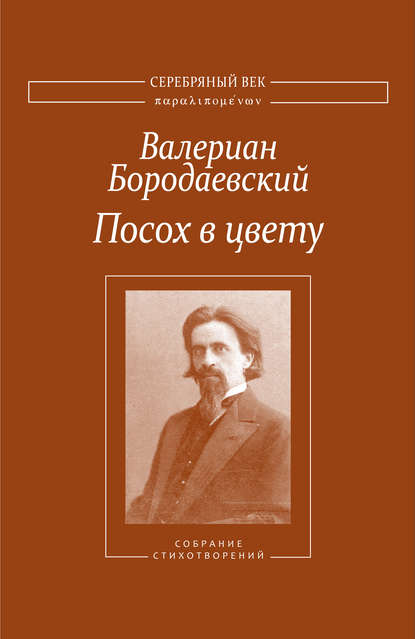Полная версия
Сочинения русского периода. Стихотворения и переводы. Роман в стихах. Из переписки. Том II
413. Дрожишь над этой жизнью – а зачем?..
Дрожишь над этой жизнью – а зачем?Трепещешь боли, горя – а зачем?..Ведь все равно непобедима жизнь —Твоей судьбе ее не изменить.Кричи в агонии; я жить хочу…В тоске моли: я умереть хочу…мри… живи… непобедима жизнь —Твоим словам ее не изменить.Подобен мир нетленному лучу.Умри, ослепни, стань безумен, нем —он так же будет петь, сиять, трубить:непобедима и бессмертна жизнь!414. Белые стихи
Для глаз – галлиполийских роз,сирийских сикомор венки…Но жалит в ногу скорпиономэдема чуждого земля.Здесь чуждый рай, там ад чужой:стозевный вей, фабричный пал…На заводских покатых нарахи сон – не сон в земле чужой.Раб – абиссинский пьяный негр,бежавший с каторги араби ты – одним покрыты потом…и хлеб – не хлеб в земле чужой.Черства изгнания земля…Пуста изгнания земля…Но что считает мир позором,то не позор в земле чужой.Вы, глыбы непосильных нош,ты, ночь бездомная в порту,в вас много Вечного Веселья —Бог – только Бог в земле чужой.415. Пугливы дни безмолвною зимой…
Пугливы дни безмолвною зимой.Чуть вспыхнет лед на окнах, уж страницышевелят сумерки. На книге оттиск свой —– круг керосиновый – закрыла лампа. Лицаразделены прозрачным колпаком.Шатаясь, ветер подпирает дом,скребет ногтем задумчиво карнизы.Наверно снятся голубые бризыему, бродяге северных болот.Что ж, день, зевнем, перекрестивши рот,закрыв лицо листом газетным ломким,уткнемся где-нибудь от всех в сторонке —на старом кресле и, вздохнув, уснем.Пускай за нас дрожит в тревоге дом —развалина, упрямое строенье;пусть напрягает старческое зренье,чтоб разглядеть сквозь эту тишь и глушь,не скачет ли уже по миру Муж,испепеляя – огненным копытомвойны последней – земли и граниты,в пар превращая гривы пенных води в горсть золы – земной огромный плод.416. Солнце
1В мире – о ночи и дни,прах, возмущенный грозой! —часто с безумной земливидел я лик огневой.Дымный Невидимый Знойшел золотою стопой,шел над землею в огне,шел, обжигая по мне.Видел его, как слепой,веки закрыв, только дымвидя его золотой.Все мы слепые твои,Всеослепляющий Дым.Молча на камнях сидим,камнях, согретых тобой,лица подставив своиправде твоей огневой.417. Солнце
1. Благодатной тревогой
Благодатной тревогойколеблемый миробольщал мою душу.Скрежет и войс хаосом смешанных днейвоздали ей громкую песнь,облистали безумным огнем.Но мечик июньского солнца просекзолотые пылинки,отсекпрядь волос у виска,и я, вздрогнув, проснулся: в детскойнад книгой,где я уснул в солнечном детствемоем.418
2. В эти опустошенные дни
В эти опустошенные дник краю неба все снова и снова подходит,смотрит на землюзачать новую жизнь после второго потопа,когда не воды стремились на землю,а ничто, пустота.Исполни же миром немеркнущим:новой любвибеззаповедной, внегрешнойи бездобродетельной также,имя которой просто и только любовь.419. Дополнение к оде II
1И я был, в строках, направленв ту пустынь рифм, и связь существя зрел, в навершии поставленодических и диких мест.Добротолюбия законом,российской светлостью стихов,в том облачном – отвечном – ономк богооткрытью стал готов.Врастающий в небоосновутам корень жизни зреть дано,– исток невысловимый слова,– его гномическое дно.2Совидцев бледных поколеньябогаты бедностью своей.Был вихрь российский, средостеньевеков – умов – сердец – страстей.Из апокалипсиса в долыпо черепам и черепкамтрех всадников вели глаголы,немым неведомые нам.Я зрел: передний – бледный всадникскакал через цветущий сад,и белый прах цветов и сад сникв огнь, в дым, в сияние – в закат…Но поутру вновь пели пчелы,был страсти жалящий язык:следами Данта в гром веселый,в огнь вещный – вещий проводник.Лишь отвлекали кровь касаньястволистых девственниц – припасть,березе поверяя знанье:все – Бог, Бог – страсть.3Дано отмеченным бываетсойти в себя, в сей умный круг, —в такое в, где обитаеттысяче – лик, – крыл, – серд и – рукцарь нижнего коловращеньяиз узкого в безмерность внепуть указующий из тленья,в виденьи, ви́деньи и сне.Не праотец ли, множа перстность,путь смерти пожелал открыть(чтоб показать его бессмертностьи в светлость перстность обратить), —на брег опустошенной суши,в плеск герметической реки,где в отонченном виде души,неточной персти двойники…4Бессмертные все эти слоги:– Бог – страсть – смерть – яслагали тайнописью строгийначальный искус бытия.Но и в конце его – Пленира,дом, мед – я знал, как в годы те,пристрастия иного мираи милость к этой нищете.Когда любовь меня питает,по разумению хранит,когда она меня пытает,зачем душа моя парит,зачем речения иныепредпочитает мой язык,ей непонятные, чужие(косноязычие и зык), —одической строкой приятномне в оправданье отвечать,а если это непонятно, —безмолвно, гладя, целоватьи думать:5сникли леты, боги,жизнь нудит, должно быть и ядлю сквозь тяготы и тревогипустынножитье бытия.Взгляну назад – зияет безднадо стиксовых немых полей,вперед взгляну, там тот же без днапровал, зодиакальный вей.Средь вещного опоры ищетздесь, в светлой темности твой зрак,и призраком сквозится пища,и плотностью страшит призрак.Чуть длится свет скудельной жизни:дохнуть – и залетейский сон,приускорен, из ночи брызнет:лёт света летой окружен.Но и в сей час, в вей внешний взмахапоследний опуская вздох,просить я буду: в персты прахаподай мне, ближний, Оду Бог.Рукописные тексты
420. В дни, когда обессилел от оргии духа…
1В дни, когда обессилел от оргии духа, слепой от сверкавшего света, глухой от ревевшего грома – пустой, как сухая личинка, ночной тишиной, я лежал, протянувши вдоль тела бессильные руки.
И смутные грёзы касалися века, глядели сквозь веко в зрачки. Голос их бесконечно спокойный, глаза – отблиставшие, руки – упавшие, точно косматые ветви березы.
Я думал: не нужно запутанных символов – «умного» света нельзя называть человеческим именем, пусть даже будет оно – «Беатриче».
Не гром, не поэзия в свете, меня облиставшем, явились: сверкало и пело, пока нужно было завлечь меня, темного – наполовину глухого, отвлечь от святой мишуры… Не стремление, не «сладострастие духа», не оргия, даже не месяц медовый, но дни утомительной службы, но долг. И умолк мой язык, как старик, бывший… юношей.
421… Написана там от руки чорной тушью…
1…написана там от руки чорной тушью, значками условными повесть. Прочтем.
Дом просторный и светлый. Семья. Две сестры. Смех и песни от ранней зари до зари. Ночью – тайна в луне углублённого сада. В луне… Верить надо надеждам и стуку сердец.
Умирает внезапно отец. Распадаются чорные громы и катятся с туч на долину…
Пахнет кровью. Колючий забор оплетает окопы. Слышен грозный глухой разговор отдаленных орудий… Вот рой пролетающий пуль. И все ближе, все ближе людей озверевшие лики и клики смущенной толпы…
Не сдаются улыбки и смехи, а сны всё уносят – порою – в мир прежний, в мир тихий и светлый… Случайной игрою —: звон шпор… блеск очей и речей… и таинственный шопот… и звук упоённого серца: оно не желает поверить, что нет ему воздуха, света и счастья… оно ослепляет неверной, нежной надеждой… Венечной одеждой… ночами душистыми темными шаг его громче звучит. Рот не сыт поцелуями дня.
От несытого рта отнимаются губы, чтоб ропот любовный сменить на глухую команду: «по роте…!» И где-то, в охоте (напрасной!?) людей за людями, ей-ей! – неизвестными днями – часами – убит… И лежит на траве придорожной… и обнять его труп невозможно, поглядеть на застывшие взоры… штыки и запоры… заборы…
Меж тем, первым днем мутно-жолтым осенним ребёночек слабенькой грудкой кричит….. Ночь молчит; за окном не глаза ли Земли?..
Дни бесцветные, страшные дни. Нету слез, глохнут звуки. И руки Работы давно загрубелые грубо ласкают привыкшее к ласкам иным ее нежное тело. В глазах опустевших Работы – дневные заботы бегут беспокойно; спокойно и ровно над ней она дышит. И видит она испещренное сетью морщин, осветлённое внутренней верой обличье, сулящее ей безразличие к жизни. И вот, припадает к бесплодной груди головой, прорывается скрытой волною рыданье с прерывистым хохотом, – с губ припухших, несущих ещо поцелуи давнишние жизни…
422. Я всё возвращаюсь в аркады замолкшие храма…
Я всё возвращаюсь в аркады замолкшие храма.
Звучит, пробуждаясь, забытое старое эхо по сводам.
И плачет мучительно серце и шепчет: не надо свободы – пусть годы проходят отныне в раскаяньях памяти.
Только луна разрезает узоры резных орнаментов и лента лучей опускается в серые окна, мне кажется, где-то рождаются звуки шагов…
С трепетом я ожидаю – безумие! – невероятной сжигающей встречи…
Мечта?!. В переходах мелькнул бледнотающий облик. – Сквозь блики луны слишком ясно сквозило смертельною бледностью тело.
Я бросился следом, хватая руками одежды, касаясь губами следов, покрывая слезами колени…
Где встали ступени в святая святых, где скрестилися тени святилища с тенями храма, – как рама, узорная дверь приняла его образ с сомкнутыми веками, поднятым скорбно лицом.
Отдавая колени и руки моим поцелуям, он слушал прилив моих воплей о милости и о прощеньи.
И губы его разорвались —: к чему сожаленья – ты видишь – я жив.
Это звуки гортани его!.. Тепло его тела святое! И я могу пить пересохшим растреснутым ртом этот ветер зиждительный, ветер святого тепла… Мне дана невозможная радость!.. и это не сон? не виденье? не миги последние жизни?..
423. Мир это – дом весь сложенный непрочно…
Мир это – дом, весь сложенный непрочно из кирпичей полупрозрачных дней. Все призрачно, все непонятно, точно идешь по жалам тухнущих лучей.
Зажав ладонью пламя робкой свечки, я подымаюсь в мир родного сна, где ждет меня с войны у жаркой печки, задумавшись над жизнью, Тишина.
Мне хочется в припадке нежной лени, целуя руки тихие, уснуть.
Но все рябят прогнившие ступени и тьма толкает в бездну вбок шагнуть.
424. Вечно может быть рано и вечно может быть поздно…
1Вечно может быть рано и вечно может быть поздно все снова и снова касаться губами поющей тростинки и лить из горящего сердца все новые песни.
Но с каждой весною чудесней скопляются тени, загадочней падают звуки на дно потемневших озер и всплывает узор на поверхности водной, узор отдаленных созвездий.
И тише становятся песни, ясней зажигаются взгляды, и рада стоглазая ночь покрывать меня тихим своим покрывалом, шептать, обдавая дыханьем, и меньше все надо прозрачному теплому телу.
425. От моих поцелуев трепещут и бьются…
2От моих поцелуев трепещут и бьются пугливые руки. И звуки печальные слов я готов уронить – я роняю – в пустые глухие разрывы часов пролетающей ночи.
Я вижу воочию лик непонятно святой, лик сияющий – той, что послушно отда́ла безвольные руки рукам моим… Больно, мне больно от скорби, склоняющей лик побледневший – почти потемневший от тайной тоски.
Что же это такое?!.
Мы рядом, мы близко… тела поднимают цветы, восклицая: эвое! в расцвете зари, разрывая кровавые тучи, срываются ветром веселые звуки тимпанов…
и две устремленых души – точно трели цевницы – в мечте голубиной туманов…
Зачем же бледны наши лица? Какая зловещая птица парит над уснувшею кровлей и бьется в ночные слепые и черные окна? Зачем пробегает по сомкнутым скорбным губам вереница улыбок – загадочных, странных, больных?
Что скрываешь, о чем ты молчишь, непонятная девушка?
Тело твое вдохновенное, тело твое совершенное здесь, рядом с телом моим – вот, я слышу шум крови, дрожание жизни; касаюсь его, изучаю черты, покрываю усталую голову жесткими косами, точно застывшее пламя лучей…
Правда, – миг…
но пусть будет он ночью, пусть тысячью и миллионом ночей, – разомкнутся ли губы, сойдут ли слова, пробегут ли случайные тени? взойдет ли нога на ступени, откроет ли робко рука двери храма, святая святых, полутемного, полупрохладного; возле ковчега склоню ли колени, ковчега твоей плотно замкнутой тайны?
Зачем так случайно, зачем так печально меня повлекло к твоему непонятному телу?
зачем так послушно ты мне протянула пугливые руки, несмелые звуки признаний прослушала молча?
Вот, нету теперь ожиданий трепещущей радости, нету желаний влекущего грознокипящего злого предела!
Пропела печальная флейта и нет уже звуков – в ответ – еле слышное эхо в лесах – над рекой.
Я почти ощущаю широкие взмахи несущейся ночи.
И точно вздымаются в страхе далекие дни, как крикливая стая, взлетая и падая вниз.
Вот спокойно и твердо встаю – так пойду я навстречу опасности, полный сознанья ее.
Голос тверд и отчетливы жутко движенья. Ты чувствуешь это и ты уронила: мне страшно…
Глухо закрылось крыльцо, сквозь стеклянную дверь потемнело склонилось лицо.
Ухожу с каждым шагом все дальше…
426. Из «Петруши». Часть вторая
3сц. IIГрязная кухонка. Большая печь. Грязные ведра, метла, связка дров. Корыто. В углублении засаленная штопаная постель.
Тетка – старая, сухая, в мужниных сапогах. Входит Петруша.
Тетка: куда только тебя черти носят? навязался на мою шею! красавец! Горб-то спрячь свой, чего выставил. Тетка старая, еле ноги волочит, а ему бы по полям шнырять. Сели на мою шею… Вынеси ведро.
Петруша с трудом, кряхтя исполняет это. Ему, видимо, очень тяжело.
Тетка: отец твой сегодня заявился…
Петруша выронил ведро, мгновенно побледнел.
Тетка: Чего стал? Пойди, поцелуйся. На дворе лежит. Предлагала ему в доме, на людях не срамиться – нет, потащил туда сено. Водкой так и дышит.
Петруша (с трудом): Папа?
Тетка: Да, папа… Гибели на вас нет с твоим папой. Сынок в отца пошел. Ну, чего стал? Смотри, что на плите делается.
Сама ходит и тычется всюду, видимо, без дела. Ворчит.
Петя: Сами, видно, тетушка, с утра…
Тетка: Змееныш! Пошипи у меня… Да с вами не только что пить выучишься!.. Живуча как кошка, как кошка – не дохнешь. Смерти нету… Никакой жизни. (Роняет что-то)
Петя: Пошли бы вы лучше на огород. Я тут посмотрю. Нечего вам толкаться. Мешаете только.
Тетка: Ты что? Старой женщине указываешь (идет к постели) стара уже, чтобы такие вещи слушать. Господи, Господи! Теперь никого не слушают. (Ложится) О-о! О-о! Петька… Петюша!
Петя: Чего?
Тетка: Ты смотри, чтобы отец не как в прошлый раз… А то все вынесет – стара я, ноги меня не носят. Всю жизнь, всю жизнь!.. Ничего скоро не останется… Обворовали старую, обошли… Дура и есть. Похоронить не на что. Небось, умру – в огороде закопаете, как собаку.
Петруша со страдальческим лицом быстро подметает. Выносит мусор. Ровно складывает дрова. Убирает посуду. Принимается за плиту. Сам на ходу отрезает кусок хлеба и ест – видимо, голоден. В закрытое паутиной и грязное окно еле пробивается свет. На дворе темнеет.
Тетка: В какое время пришел. Уже спать пора, а не есть.
Петя (вполголоса): Откуда это взялось, что я все должен делать: и воду носить, и обед готовить. Минуты свободной нет…
Тетка: Чего, чего?..
Петруша поет очищая картофель. Плита разгорается.
– Надо бы родиться,Чужим хлебом питаться,В церкви в праздник молиться,На войну призываться.А задумавшись сяду:Для кого это надо?сц. IIIТа же кухонка. Постель с теткой углубляется. Печь вырастает. Она почти имеет человеческое лицо с закрытыми глазами и пылающей четырехугольной пастью. Морду свою она положила на лапы – подпорки. Кастрюли на стене позвякивают, мотаясь взад и вперед. Петруша отклонился на спинку стула. На его коленях раскрыта книга, но глаза его закрылись и голова свесилась.
Горшки на плите оживают в неверном свете сумерек. Толстый котел настраивает контр[а]бас. Высокий чайник с длинным носом и шарфом на шее что-то наигрывает на флейте. Старый кофейник, стоящий тут же, приготовляет скрипку. Маленькие котелки, присев, выбивают дробь на барабанах.
Зайчики от огней печки пляшут по стене, меняя формы. Один из них, прыгнув на плиту, машет руками. Котлы смолкают. Зайчики-световки строятся в ряды, ожидая музыки.
Дирижер-световка стучит палочкой. Барабаны начинают отбивать дробь. Световки сходят со стены и обходят комнату. Одежды их трепещут. Одни из них очень длинные, другие короткие. Ноги и руки непропорционально коротки или длинны. Самые причудливые и уморительные пары.
В дробь барабанов входят тонкие звуки флейты. Она поднимается все выше-выше. Вслед за световками слетают легкие девочки с распущенными волосами; они кружатся по комнате, бросая друг в друга цветами; их смех рассыпается звонко.
Вдруг контрабас начинает гудеть, то понижая, то повышая голос. Отстав на такт, за ним спешит скрипка.
Световки топают ногами и, поднимая руки, кривляясь, пускаются в пляс. Девочки увиваются между ними. Все смешалось. Музыка невыразима. Музыканты играют различные мотивы и разным темпом. Барабаны трещат непрерывно.
Внезапно все смолкает. Световки шарахаются к стене.
Хор вдали: Голос сердец человеческих… голос сердец, осужденных дрожать, точно лист пожелтевший на ветке нагой.
Твой отец, твой отец, утомленный, нагой, видишь – манит рукой.
Обведи свое сердце стеной, золотыми гвоздями забей его дверцу из кедра, – бесплодные недра Земли не раскрылись пока.
Пусть, как мельница, машет рука твоего утомленного жизнью отца – укачайся на волнах,
(музыка тихо повторяет мотив)
на волнах огней золотистых…
(Световки теряют личины. Стройные юноши и девушки в прозрачных одеждах окружают его) в одеждах сквозистых они проплывут.
Световки танцуют странный торжественный танец. Темп музыки ускоряется. Световок делается больше. Одна отделяется и подходит к Петруше. Белые руки, голубые глаза, золотые волосы. Нежно заглядывает в глаза.
Световка: Милый, милый… Я тут.
Петруша просыпается. Первое бессознательное движение – улыбка ей.
Световка: Точно синие крыльями блещут стрекозы, трепещут стыдливые взоры. Их танец дурманит. Скорей поднимись, обними мое детское тело. Сквозь воздух, сквозь пламя оно пролетело, чтоб взгляды твои осветить. Что же веки твой взор от меня закрывают.
Петя: Я рад, но мой горб не пускает. Нам с ним не расстаться.
Световка (дотронулась до него, горб спадает): Спешим!
Смешиваются с танцующими. Проходят пары.
Первая пара:
Она: Вы льстите, обманщики, вижу насквозь – неудачно.
Он: Я думаю, трудно не видеть, когда мы прозрачны. И я сквозь прекрасные формы и ваши черты вижу пищу у вас и кишки.
Другая пара:
Он: И зачем притворяться и умную всю городить чепуху, чтобы после так скверно закончить последним и грубым хочу.
Третья пара отбегает в сторону.
Он: Поцелуй, умоляю, один.
Она: Что за глупость.
Он: Пусть глупость – она добродетель. Вот скупость – порок.
Она вырывается. Он споткнулся о другую пару.
Она: Вам урок.
Петруша и световка.
Петруша: Зачем это сделано? Кем? Им, все им? Одному тяжело, чтобы было еще тяжелее двоим!
Световка: Тяжелее? Нет – легче. (Кладет ему на плечо голову).
Петруша: Эх! Глупости, глупости это. Так много печали, страданья – и крошка упавшая света. Зачем?!. Человек – целый век… Век? Нет – несколько лет он налитыми кровью ногтями на кладбище роет могилу и строит свой дом с деревянным крестом на некрашеной крыше. Глаза его красные смотрят упорно, горят, – фонари, ищут счастья, любви и покоя. Ищи!
Световка; Не найдешь?
Петруша: Не найти.
Св.: Ха-ха-ха!
П.: Как устал, как устал!
Св.: Ха-ха-ха!
П.: Ты смеешься.
Св.: Ах глупый. А ну-ка, взгляни мне в глаза. Губы, красные губы!{1}
Хочет обнять ее.
Св.: Как руки твои неумелы и грубы. Ты долго стоял на большом сквозняке. Мок в воде слез своих и чужих. Мальчик, ты огрубел. Ты забыл, что все ласки – они целомудренны. Матери —
П.: Матери!?
Св.: Что?
П.: У меня нету матери…
Св.: Бедный. Теперь ты не веришь, что может быть все хорошо. Так светло.
П.: Так светло?.. Нет, не верю. Исполни и дай моим жадным рукам все, чего я хочу, и тогда я поверю.
Св.: Чего же ты хочешь?
П.: Чего? (Растерялся) Залу…
Св.: Залу?..
П.: Дворец.
(Все исчезает)
Сц. IV.Огромная зала. Арабская архитектура. На стенах мозаичные орнаменты.
Петруша беспомощно оглядывается. Ходит и притрагивается руками к предметам. Она ходит за ним, глядит на него. Он опускается на пол.
Световка: Ну?.. Молчишь?
Петруша: Я… не надо… Мне – маму увидеть.
Из-за колонн выходит бледная женщина. Слегка сутула. На ней простое платье. Идет к нему. Он внимательно смотрит.
П.: Так это… так это…
Св.: Сильней напряги свою память, не то она в воздухе ночи рассеется.
Он смотрит внимательно. Напрасно. Она тает и пропадает.
П.: Нет, не могу… И не надо.
С.: Ты грустен?
П.: Ты видишь, мне нечего здесь пожелать.
С.: А меня? (ластится к нему)
П. (робко): Ты не призрак?
С.: Я – сонная греза. А сон – половина положенной жизни. Зачем вы так мало ему придаете значенья. Вот ты говорил: жизнь – мученье. Да, жизнь наяву. Но во сне… Каждый радости ищет в себе. Мир в себе… Потому так и счастливы звери и травы… и люди, которые проще, как звери. А ты – тоже можешь – в себе… (громко) Двери, двери!
Со всех сторон появляются странные серые создания с красными глазами и лапками. Они катятся, прыгают друг через друга.
С.: Ну, что вы? сказала вам: двери.
Они сметаются. Двери закрыты.
П. (со страхом): Кто это?
С.: А сторожи ваших жилищ. Охраняют людские жилища. Комки сероватые пыли. Не требуют пищи, дрожа по углам. Призывают вас вечно к работе. В лучах золотого и доброго солнца играют… Взгляни же в себя. Глубже, глубже. Вот так… Что ты видишь?
П.: Я вижу – колеса.
С.: Колеса?
П.: Цветные, в огнях… драгоценный узор. Колесница несется, взвиваются кони. Их гривы сверкают… Мне больно, мне больно глазам.
С. (Прижимается все ближе и ближе к нему): Ты дрожишь…
–
427. Сын века
(Сонет)
Насытившись блаженным видом снов своей жены, я целый день готов горсть хлеба выгрызать из скал с рычаньем, благодаря в молитве за ничто.Вы видите, каким пустым желаньем копчу я нынче наш небесный кров. Вы скажете, – устал я от познанья, от дерзости неслыханной и слов?Наверно, нет: когда ночным мерцаньем забродит мир, во сне я мерю то, что одолеть еще не мог дерзаньем,чтобы верней, скопившись сто на сто, вцепиться в гриву неба с ликованьем, прыжком пробивши череп расстоянья.428. Я не один теперь – я вместе с кем-нибудь: со зверем…
Я не один теперь – я вместе с кем-нибудь: со зверем, дышащим в лицо дыханьем теплым, щекочащим горячей шорсткой грудь, когда в ночи грозой сверкают стекла;
и, только день омытый расцветет, я раскрываю миру свои веки – все, что живет, что движется, зовет: деревья, звери, птицы, человеки – мне начинает вечный свой рассказ, давно подслушанный и начатый не раз; и даже хор мушиный над столами, следы, в песке застывшие вчера… мне говорят бездушными губами все утра свежие, немые вечера.
Их исповедь движения и слова мне кажется к шагам моим тоской. Спуститься серце малое готово к ним неизвестной разуму тропой.
И иногда я думаю тревожно: когда скует бездвижье и покой, и будет мне страданье невозможно, – увижу ли сквозь землю мир живой? Какие грозы мутными дождями мое лицо слезами оросят, когда в земле под ржавыми гвоздями ласкать земное руки захотят!
429. Жатва (В движеньи времени, лишь вспыхнет новый день)…
В движеньи времени, лишь вспыхнет новый день, мы в прошлое отбрасываем тень, и наше прошлое под тенью оживает (так ствол подрубленный от корня прорастает).Дай крепость зренью, слуху и словам, чтобы, прикрыв дрожащие ресницы, прошел в уме по прежним берегам, где теплятся потухшие зарницы.В моих блужданьях следуй по пятам, Ты, уронивший в эту пахоть мысли, – дыши дыханьем, ритмом серца числи.Пусть чувствует дыхание Твое и я, и каждый, кто страницы эти раскроет молча где-нибудь на свете, в котором тело таяло мое.22. IX.27. Острог, Замок.430. Ребенком я играл, бывало, в великаны…
1Ребенком я играл, бывало, в великаны: ковер в гостиной помещает страны, на нем разбросаны деревни, города; растут леса над шелковиной речки; гуляют мирно в их тени стада, и ссорятся, воюя, человечки.Наверно, так же, в пене облаков с блестящего в лучах аэроплана парящие вниманьем великана следят за сетью улиц и садов и ребрами оврагов и холмов, когда качают голубые волны крылатый челн над нашим городком пугающим, забытым и безмолвным, как на отлете обгоревший дом.Не горсть надежд беспамятными днями здесь в щели улиц брошена, в поля, где пашня, груди стуже оголя, зимой сечется мутными дождями. Свивались в пламени страницами года, запачканные глиной огородов; вроставшие, как рак, в тела народов и душным сном прожитые тогда; – сценарии, актеры и пожары – осадком в памяти, как будто прочитал разрозненных столетий мемуары.За валом вал, грозя, перелетал; сквозь шлюзы улиц по дорожным стокам с полей текли войска густым потоком, пока настал в безмолвии отлив. Змеится вех под лесом вереница, стеной прозрачной земли разделив: там улеглась, ворочаясь, граница.—За то, что Ты мне видеть это дал, молясь теперь, я жизнь благословляю. Но и тогда, со страхом принимая дни обнажонные, я тоже не роптал. В век закаленья кровью и сомненьем, в мир испытанья духа закаленьем травинкой скромной вросший, от Тебя на шумы жизни отзвуками полный, не отвечал движеньями на волны, то поглощавшие в мрак омутов безмолвный, то изрыгавшие, играя и трубя.—В топь одиночества, в леса души немые, бледнея в их дыханьи, уходил, и слушал я оттуда дни земные: под их корой движенье тайных сил.Какой-то трепет жизни сладострастный жег слух и взгляд, и отнимал язык – был ликованьем каждый встречный миг, жизнь каждой вещи – явной и прекрасной. Вдыхать, смотреть, бывало, я зову на сонце тело, если только в силе; подошвой рваной чувствовать траву, неровность камней, мягкость теплой пыли. А за работой, в доме тот же свет: по вечерам, когда в горшках дрожащих звучит оркестром на плите обед, следил я танец отсветов блудящих: по стенам грязным трещины плиты потоки бликов разноцветных лили, и колебались в них из темноты на паутинах нити серой пыли.—Но юношей, с измученным лицом – кощунственным намеком искажонным, заглядывал порою день будённый на дно кирпичных стен – в наш дом: следил за телом бледным неумелым, трепещущим от каждого толчка – как вдохновенье в серце недозрелом, и на струне кровавой языка сольфеджио по старым нотам пело.Тогда глаза сонливые огня и тишины (часы не поправляли), пытавшейся над скрежетом плиты навязывать слащавые мечты, неугасимые, для серца потухали: смех (издевательский, жестокий) над собой, свое же тело исступленно жаля, овладевал испуганной душой. Засохший яд вспухающих укусов я слизывал горячею слюной, стыдясь до боли мыслей, чуств и вкусов.—Боясь себя, я телом грел мечту, не раз в часы вечерних ожиданий родных со службы, приглушив плиту, я трепетал от близости желаний – убить вселенную: весь загорясь огнем любви, восторга, без питья и пищи, и отдыха покинуть вдруг жилище; и в никуда с безумием вдвоем идти, пока еще питают силы и движут мускулы, перерождаясь в жилы.То иначе —: слепящий мокрый снег; петля скользящая в руках окоченелых, и безразличный в воздухе ночлег, когда обвиснет на веревке тело…В минуты проблеска, когда благословлял всю меру слабости над тьмой уничтоженья – пусть Твоего не слышал приближенья, пусть утешенья слов не узнавал – касался м.б. я области прозренья.