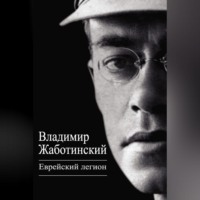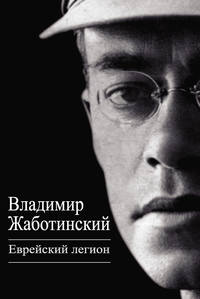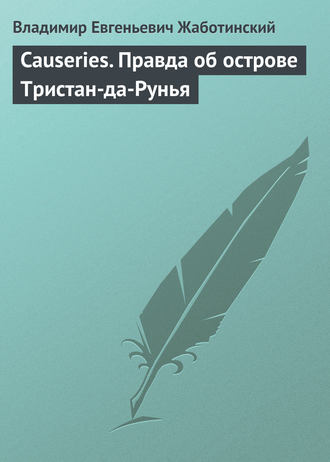 полная версия
полная версияCauseries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Иногда я задумываюсь вот о чем: у социализма есть энтузиазм и мечтатели, и в этом, быть можете, главная сила его. Но в том мировоззрении, символом которого кажется мне мысль о юбилейном годе, заключено видение гораздо более привлекательное для человеческой мечты. «…»
1930Правда об острове Тристан да Рунья
Примечание: Предлагаемый очерк есть перевод четырех выдержек из лондонского «Таймса» – № 70,352 и сл. К сожалению, по недосмотру нашей секретарши, даты этих номеров на папке, где хранились вырезки, не отмечены; читатель, однако, легко может восстановить дату – для этого достаточно купить сегодняшний «Таймс» и сравнить номера (7-го июля 1930-го года, например, вышел номер 45.558).
Выдержки эти разделяются на две неравные части: первая часть – передовая статья газеты, где вкратце рассказана та цепь событий, которая, в годы раннего младенчества ныне уже глубоких стариков, привела к учреждению «резервации» на о. Тристан да-Рунья; вторая часть – три статьи Дж. У. Флетчера, капштадтскаго корреспондента почтенной газеты. Передовую статью мы приводим целиком; описание корреспондента подверглось некоторым сокращениям, – коснувшимся, однако, только части его собственных суждений или оценок, а отнюдь не самой информации…
The Times № 70.352
Помещенное в настоящем номере начало отчета нашего капштадтскаго корреспондента о посещении им о. Тристане-да-Рунья вызовет, должно быть, оживленный спор. Одну сторону этого спора мы, впрочем, заранее считаем несущественной. Это – вопрос о том, насколько поездка в «резервацию» (несомненно противоречащая правилам, санкционированным международными соглашениями) примирима с долгом законопослушного гражданина. Отметим только, что бывают случаи, когда единственным путем к исправлению устарелого закона является путь смелого правонарушения… В одном, однако, сомнения нет – г. Флетчер оказал значительную услугу не только поселенцам о. Тристан да-Рунья, с которыми нас впервые знакомит его талантливое перо, но и человечеству, и, в особенности, науке социологии почти во всех ее разветвлениях.
Не больше месяца тому назад, обозревая годовой отчет Международной судебной палаты, мы (далеко не в первый раз) отметили отрадный факт продолжающегося падения в числе так называемых «тристанских» приговоров. Три случая за последний отчетный год, два за предыдущий – и это при огромном резервуаре из тридцати шести больших и малых наций, признающих юрисдикцию Международной судебной палаты. Самая незначительность этих цифр заставляет предположить, что читатели нынешнего поколения вряд ли много слыхали об о. Тристан-да-Рунья, и особенно вряд ли точно знакомы с историей идеи, легшей в основу договора о «резервации».
Профессор Ромиоло Дзандзарелла напечатал свою книгу в 1914 г., под заглавием «Li De inquento Nato: un Manicomio Internazionale». Изданный едва за месяц до взрыва общеевропейской войны, этот труд, за грохотом пушек, не был тогда замечен и долго оставался незамеченным. Только в самом конце реконструкционного периода проектом этим занялись конгрессы международного союза криминологов. Теория проф. Дзандзарелла была, в сущности, отпрыском той итальянской школы уголовной науки, которая, будучи основана Ломброзо, нашла даровитых популяризаторов в лиц Ферри и Гарофало и к концу девятнадцатого столетия оказала значительное влияние и на социологов, и на юристов. Подобно Ломброзо и Э. Ферри – но в отличие от Гарофало – проф. Дзандзарелла заявлял себя решительным врагом смертной казни, при каких бы то ни было условиях и при помощи каких бы то ни было средств, будь то гильотина, веревка или электрическое кресло. В то же время он всецело принимал теорию основателя итальянской школы о «прирожденной преступности» – о наличии среди нас некоторых существ, органически непригодных для жизни в современном обществе. Как и его предшественники, автор отказывался от «этической расценки» подобных существ, настаивая (мысль эта в его время еще далеко не так была общепринята, как в наши дни), что природный преступник, с нравственной точки зрения, ни «плох», ни «хорош», а просто «атавистичен». По словам проф. Дзандзарелла, многие из отвратительнейших образцов преступного типа могли бы оказаться очень ценными, даже весьма «прогрессивными» гражданами – если бы только родились они, скажем, в неолитическом периоде человечества. Отсюда следовал вывод, что непригодность данного лица для жизни в современном обществе еще не означает его непригодности для жизни вообще. Автор, однако, выступил противником не только смертной казни, но и так называвшихся в его время «гуманных» методов одиночного заключения, от итальянского ergastolo до американскаго pen. Общество, по его мнению, обязано предоставить «запоздалому троглодиту» полную возможность создать для него самого, для ему подобных и для их потомства «палеонтологический социальный организм», обезопасив, в то же время, и цивилизованный мир путем уничтожения какого бы то ни было контакта между бытом современных людей и бытом «троглодитов».
Выражение «Manicomio Internazionale», употребленное в подзаголовка его труда, не означало, однако – и проф. Дзанзарелла это объяснил в особой главе, – что проект его сводился к созданию чего-то вроде приюта для душевнобольных. Проф. Дзандзарелла (в этом отношении, насколько нам известно, первый) предложил нормальному человечеству совершенно отказаться от мысли об управлении атавистическими людьми, или даже от надзора за их бытом. Один из отделов его книги был озаглавлен «Marooned», которому в итальянском язык нет эквивалента. «Marooned» означает «высаженный на берег».
Основные черты его плана были те самые, что впоследствии легли в основу международного договора. Принимая его проект, XIV-ый и XV-ый конгрессы криминологов внесли в него только одно дополнение, а именно положение о том, что для такой ссылки за пределы цивилизованного мира приговор национального суда должен быть пересмотрен и подтвержден комиссией экспертов при Международной судебной палате.
Лига Наций, приступив к практическому обсуждению этого проекта, почти сразу остановила свой выбор на о. Тристан-да-Рунья. В пользу такого выбора говорило многое: отдаленность острова не только от других обитаемых мест, но и от обычных морских путей; почти полная незаселенность; главное – отсутствие металлов и угля. Этот последний довод показался особенно убедительным. Оппоненты проф. Дзандзарелла в свое время указывали на то, что община «троглодитов», если дать ей свободно развиваться, может постепенно создать техническую цивилизацию, которая, в конце концов, даст ей возможность самой установить совершенно для нас нежелательный контакт с нормальным миром. Но эта опасность явно отпадала при выборе острова, абсолютно лишенного металлов. В то же время умеренный климат, плодородная почва, обилие рыбы в речках и небольших озерах острова обещали некоторую степень благоденствия тем из поселенцев, которые окажутся способными к тяжелому труду. В какой мере оправдались все подобные предвидения, читатель узнает из отчета г. Флетчера.
Опыт о. Тристан-да-Рунья не имеет прецедента в истории. Австралия, Сибирь, Новая Каледония тоже когда то знали недобровольных поселенцев, но этот элемент вскоре исчез в поток свободной иммиграции; да и сомнения нет, что девять десятых из «ссыльных» той эпохи ни в каком смысле не принадлежали к типу, который имел в виду профессор Дзандзарелла. «Тристанский» договор дал атавистическому человеку, не рожденному для нашего общества, общество ему сродное, отрезанное от всякого сообщения с внешним миром. В результате, как мы теперь видим, получился один из наиболее поучительных наглядных уроков, когда либо выпадавших на долю человечества. В то же время договор этот оказал миру неоценимую услугу, освободив цивилизованную совесть от гнуснейшего из пережитков варварства: от убийства человека государством.
Первая статья м-ра ФлетчераПо понятным причинам, способ моего проникновения на о. Тристан-да-Рунья должен пока остаться тайной. Могу только прибавить, что это не был ни аэроплан, ни подводная лодка; да оно и было бы невозможно – от таких очевидных путей подхода остров, как известно, герметически защищен. Не могу, к сожалению, и назвать тех – удалых и отважных друзей, которые помогли мне осуществить это предприятие; но прошу их, по крайней мере анонимно, вновь принять мою глубокую признательность.
Подробности моей высадки, последовательная смена впечатлений, первая встреча с поселенцами, наше взаимное изумление, все стадии моего постепенного ознакомления с их бытом – всего этого нельзя передать в газетной радиограмме; все это я вынужден отложить до полного отчета, который надеюсь издать отдельной книгой. Здесь ограничусь кратким и сухим перечнем наиболее выдающихся фактов. Перечень этот удобнее будет разделить на три части: в первой будет изложена история этой странной колонии, во второй – ее общественное устройство, в третьей – ее расовый, языковый и культурный облик.
Здесь теперь насчитывается до четырех тысяч населения; женщин в том числе около четверти. По возрастному составу – мужская часть колонии мало чем отличается от любого общества где бы то ни было; но у женщин картина иная. Больше половины из них – совсем юная молодежь, не старше пятнадцати лет; я насчитал всего семь женщин, которым уже пятьдесят и больше; среди остальных преобладает возрастная группа от двадцати пяти до сорока лет. Население довольно равномерно распределено по всей плодородной части острова. Около трети живут разбросанными дворами, остальные – в двенадцати крупных селениях. Старейшее из этих селений можно, пожалуй, назвать и городком; он официально именуется Ахополис, но в обиходе они зовут его Черко. Черко, по нашим понятиям, есть нечто вроде столицы, хотя, строго говоря, титул этот вряд ли совместим с началами, которыми проникнуть здешний общественный строй.
Черко был основан первой группой ссыльных и ранняя летопись колонии вся вращается вокруг этого селения. Предо мною лежит рукописная копия полной истории Тристана; это – безусловно замечательная работа, и автора ее, имя которого Иосиф Верба, мне придется часто поминать в своем отчете. Кроме того, я собрал и устно целый ряд личных воспоминаний отдельных поселенцев. Рукопись Иосифа Вербы, им самим любезно переведенная на английский язык, а также некоторые из других повествований будут целиком приложены к моей книге; но главную суть той эволюции, какую проделала колония за шестьдесят лет своего бытия, попытаюсь передать здесь.
Первые шесть лет я бы назвал эпохой доисторической. Выдающихся событий не было; если не считать периодических (в то время – дважды в год) высадок новых партий, дни шли за днями без перемен, перед поселенцами стоял вопрос о том, как им выжить, – и стоял он пред ними в такой жестокой постановке, о которой никогда еще, даже во дни пещерного быта, человечество понятия не имело. У троглодита, как ни как, все же были кой-какие орудия, и, главное, был унаследованный навык производить орудия и пользоваться ими. Поселенцам Тристана давали на дорогу недельную порцию бисквита, коробку пилюль хинина против малярии, парусиновую куртку и брюки, зимнюю шинель, деревянную лопату, и две щепки с наставлением, как сделать из них огонь. Ничего железного, вообще ни кусочка металла: даже пуговицы были роговые. Остров, как известно, был – за одним исключением – приведен в состояние полной одичалости; жилища прежних обитателей снесены были до самой земли; особенно тщательно увезено было все металлическое, вплоть до старых гвоздей. Я упомянул одно исключение: это единственное наследие цивилизации заключалось в нескольких мешках разного рода семян, да в немногих головах скота – лошадей, коров, коз и овец. Ни сохи, ни даже топора или ножа, при помощи которых можно было бы срубить сук и выстрогать из него сошник.
При этом изо всей первой партии ссыльных, кроме одного, никто понятия не имел ни о пашне, ни о стаде. Опыт возвращения первобытного человека в первобытную среду был проведен над ними с точностью, пожалуй чересчур уж доктринерской. Но зато он действительно вышиб у них из головы все другие мысли, кроме одной: выжить! Когда будет напечатана история первой их борьбы, рассказанная собственными их словами, она, по-моему, должна будет вытеснить «Робинзона», как куда более разительный пример человеческой энергии и изобретательности.
Только один из них, русский маньчжур, оказался мужиком. Под его руководством они лопатами: вспахали свою первую десятину; и не сразу, а лишь после того, как чуть не год прожили, питаясь плодами, рыбой, изредка пернатой дичью. Ни один из них в жизни не видал стрелы и лука, в жизни даже не наставлял силка. Месяцы прошли, пока им удалось это все «изобрести» и сделать, не имея чем заострить стрелу, не имея ни куска веревки для силка или тетивы. С бесконечным терпением, после бесчисленных неудач, они наконец смастерили нечто вроде сохи – потому что первый их посев, «лопатный», кончился жестоким неурожаем. Так, понемногу, к концу второго года, когда община выросла уже до полутораста душ, накопился у них уже целый набор всяких деревянных и каменных орудий.
Труднее всего пришлось им, пожалуй, со скотом. Я уже отметил, что в первой партии, кроме того маньчжура, были все только природные горожане. Овец они не знали, знали только баранину. В переполохе первых дней они лучшего ничего придумать не могли, как заняться превращением овец в баранину. Скоро ни одной головы скота бы не осталось; но крестьянин-маньчжур запротестовал, и они заключили уговор – стад не трогать. Любопытно: эта начальная глава в летописи их скотоводства связана с единственным, за первые двенадцать лет их истории, применением смертной казни. Один из них, маленький горбун, был пойман с тушей козы (я установил по газетам, уже вернувшись в Капштадт, что сослали его за длинный ряд мастерски проделанных отравлений). Его убили тут же на месте.
Чтобы вникнуть в психологию этих первых поселенцев, нужно, я думаю, прежде всего не приравнивать их к любимым героям детской книжки – жертвам кораблекрушения на необитаемом остров. Те, судя по книжкам, начинают с бунта против капитана, в первый день съедают все консервы, разбивают бочонок с ромом и напиваются, вообще учиняют сначала анархию. Если это и правда, то объясняется просто: у тех моряков есть надежда на дым или парус на горизонте. Поселенцы Тристана знали, что остров этот для них или дом, или могила.
Я не нашел на острове никаких данных о том, за какие грехи попали сюда первые ссыльные; даже старожилы не помнят. То же могу сказать и об уголовном прошлом позднейших поколений. Это, пожалуй, одна из самых замечательных черт здешней психологии: полное отсутствие интереса к прежней, доссыльной жизни соседа. Как бы то ни было, одно несомненно: те первые поселенцы были преступные типы отборной свирепости. Но жизнь в этих условиях оказалась еще более свирепым противником, загнала их на край пропасти и заставила обороняться. Говорят, ни в одной армии никогда не бывало такой дисциплины, какая царит в шайке бандитов, осажденных представителями закона. В данном случае осада велась именем самого грозного из законов, голода.
Сказанным уже намечены несложные линии их дальнейшего экономического развития; но их осложнял один фактор – тоже незнакомый тем морякам на необитаемом остров из книжек – а именно периодические высадки новых партий. Робинзон, правда, нашел Пятницу, но то был помощник, тут были новые голодные рты, и притом опять, почти всегда, люди, ничего не смыслившие ни в земле, ни в скоте. Для первых поселенцев прибытие второй группы явилось почти трагедией. В заботах первых месяцев они, очевидно, как-то забыли о том, что это неизбежно. Теперь у них уже были землянки, молотки, луки, «имущество», которого и самим едва хватало – и вдруг население удвоилось. Но оказалось, что «иммигранты» сами не позарились на жалкое добро «старожилов». Как раз была весна, места было вволю – и, главное, явно легче и безопаснее было для новичков просто учиться у первых поселенцев, чем идти на риск побоища. Любопытно, между прочим, что они даже и поселились не в Черко, а ушли все в другой конец острова: очевидно, уже чувствовали себя особым кланом. Но Черко остался главным селением, просто потому, что за каждым советом нужно было ходить туда, и постепенно около половины этих новоселов все-таки остались жить вокруг Черко.
Поселенцы все еще не имели понятия о том, когда ждать им третьей высадки; но одно уже было ясно – новые высадки неизбежны. В собранных мною заметках говорится о чем-то вроде «веча» обеих групп; оно состоялось, говорят, месяца через два после прибытия второй партии, и посвящено было вопросу: что сделать, когда приедут новые? У них, очевидно, было сильно развитое чувство собственности; некоторые тревожно спрашивали: а что, если «новые» окажутся неохотниками до работы и если их будет много? Было даже предложение – встретить их дубинами. Но это не прошло, отчасти именно потому, что «их» могло оказаться слишком много, а лук – не пулемет. Но больше всего повлиял тот довод, что в третьей партии, быть может, найдутся полезные люди: аптекарь, или механик, или плотник, или – главное – еще несколько мужиков по происхождению. Решено было, поэтому, не только принять их дружелюбно, но даже заранее отвести им удобное место для поселка.
Лично я слабо верю в историческую действительность этого «веча». По имеющимся у меня данным, в первых двух партиях были люди пятнадцати национальностей, по большей части люди малограмотные. На каком языке могли они вести свои прения? Предание о «вече» есть, должно быть, просто эхо целого ряда отдельных бесед. Но что вопросы эти обсуждались, и решение сложилось именно такое, – несомненно.
Признаюсь: благожелательный характер этого решения меня удивил; и вообще нельзя не подивиться тому, что за все существование колонии вообще ни разу не было попытки «ликвидировать» иммигрантов при высадке. Иммигрантам, как известно, редко где рады, особенно в бедной стране; а в том кругу, из которого вышли «старожилы», никогда за грех не считалось облегчать дележ посредством уменьшения числа конкурентов… Осторожно, с извинениями, я задал этот вопрос Иосифу Вербе. Он – человек с высшим образованием; хорошо знаком с теорией, плодом которой явилось превращение этого острова в «атавистическую» колонию, и говорит о типе прирожденного преступника безо всякого смущения. Его мнение – что вообще неправильно считать, будто тип этот всегда и при всех условиях одержим позывом к насилию. Ему просто нужна подходящая обстановка, т. е. более суровые условия жизни, и среда людей, ему подобных. В мере цивилизации атавистический человек все время наталкивается на дряблость и беспомощность среднего обывателя: это его провоцирует, подстрекает использовать свое преимущество, будь то преимущество силы или хитрости. Но дайте ему соседей такого же склада, как он сам, и вы получите стойкое равновесие. «Как железный кол», говорить Верба, «если вбить его между двумя глыбами гранита».
Как бы то ни было, «иммиграция» скоро вошла в норму быта, и уже интересовала поселенцев только с одной точки зрения – не найдется ли в новой партии полезных «специалистов»: потребность в обученных техниках все росла по мере развития их хозяйственная быта. Но возникла новая, и гораздо более сложная проблема, действительно поведшая к серьезным раздорам. С этой проблемой – и с ее удачным разрешением – связано одно имя. У нас, в мир цивилизации, оно до сих пор не забыто – как имя одного из гнуснейших образцов зверя в образе человеческом; здесь, на острове, оно свято чтится как имя спасителя родины. Имя это – Шарль Ландру.
Через все разнообразие преступных типов, которыми постепенно заполнялся далекий остров, – через всю многогранность их расовых, физических и умственных отличий, – проходило одно главное деление, одна межа, разграничивающая две обособленные человеческие категории. Межа эта стала быстро намечаться, как только вошел в норму вопрос о хлебе насущном. Эти два разряда нравственного вырождения хорошо знакомы науке: есть уголовщина насилия – и уголовщина хитрости. Каин – и Змий. Есть, понятно, и промежуточные типы, смесь обоих начал, но одно из них обыкновенно преобладает, и в суровой обстановке острова это деление скоро обозначилось выпукло и резко. Численно сильнее был, конечно, «физический» тип, раз в десять сильнее; самые условия их жизни, естественный отбор приспособления и выживания, тоже благоприятствовали преобладанию именно этого типа; умственная изворотливость была ни к чему – нужны были мышцы. Надо полагать, что не один ссыльный, чья уголовная карьера прошла главным образом под знаком Змия, здесь на острове скоро забросил все свои хитрости и решил, не мудря, целиком положиться на первобытные ресурсы мускулов.
Именно таков был Шарль Ландру. В изумительной подготовленности его тринадцати убийств, в методичности, с какой он долго покрывал следы, наконец в его блестящей самозащите на суде ярко проявилась чуть ли не сверхчеловеческая (или, напротив, подчеловеческая?) утонченность мозга. Но в то же время это был великолепный физически экземпляр; самый характер его преступлений (он убивал им же соблазненных женщин, и было их тринадцать – если считать, что всех нашли) говорил о натуре полнокровного зверя. На острове, лицом к лицу с оголенной действительностью первобытной борьбы за существование, физический «зверь» в нем взял верх и постепенно вытеснил «зверя» интеллектуального.
Но были и обратные случаи – меньшинство, у которого начало Змия оказалось чересчур сильным, а начало Каина чересчур слабым. Я, например, думаю, что к этому типу принадлежал тот горбун, которого линчевали за кражу козы в первые недели поселения. По-видимому, каждая высадка приносила по одному или два представителя этого типа. Им сразу не понравилась перспектива личного труда. Но в первые годы уклониться было просто немыслимо. Постепенно, однако, поселенцы стали обрастать «имуществом», методы работы усложнялись, и появилась необходимость в некотором разделении труда. Прибыло несколько механиков, плотников, какой-то десятник строительного цеха, даже какой то студент-медик. Все это повело к дифференциации; стала намечаться, с одной стороны, рядовая масса, с другой – отдельные организаторы или надсмотрщики.
Тут и выступили на арену «философы» (до сих пор это слово употребляется на острове, как синоним отлынивания от неприятной задачи). Люди, не имевшие никаких и ни в какой области прав на чин «специалистов», вдруг замечтали о «должностях». Но должностей таких не было; значит – их нужно было создать. «Философы» заговорили о необходимости прочной организации и иерархии с соответствующим штатом. Выражаясь языком политики, это были конституционалисты острова; они, собственно, хотели сделать из поселения муниципальную или даже государственную единицу.
В этом и была их сила. Резко выраженный тип природного преступника редко тяготеет к политическому бунтарству. Он-то сам нарушает закон, но отсюда у него еще не вытекает обобщение – что закона и власти быть не должно. Напротив, он скорее склонен считать нарушение законного порядка своей личной привилегией; а вообще «порядок» в его глазах и необходим, и неотделим от власти. Нетрудно, поэтому, было внушить поселенцам мысль, что теперь они община, общине нужен порядок, а для поддержания порядка нужно создать начальство. «Философов» было немного, не больше дюжины, но они были сплочены и, конечно, не чета остальной массе по образованности и красноречию; они навербовали много сторонников, отчасти путем тайных обещаний «должности», но главным образом – просто силой своего довода. Были у них и противники, но разрозненные, без руководителей, и без цельной доктрины, которую можно было бы противопоставить учению конституционалистов. Они только смутно ощущали, что есть что-то неладное в гладкой логике «философов», что реформа на самом деле не нужна, что проповедники ее добиваются чего-то нехорошего и несправедливого. Но главным, самым осязательным мотивом оппозиции была, по моему, простая здоровая ревность, обычная досада рядового человека на всякого, кто хочет сесть выше; важный, ты хочешь править? так нет же, вот тебе лопата – и копай. Тем не менее, философы победили бы несомненно, если бы не Шарль Ландру.
Когда он прибыл, колонии шел седьмой год. Лет пять он прожил незаметно, ничем не выделяясь, и вдруг сразу оказался лидером оппозиции против «философов», и притом, как оратор и организатор, куда сильнее своих противников. Против их учения о государственности он выдвинул другую теорию. Он ее, вероятно, заимствовал из анархистских или синдикалистских брошюр, которые были в моде в годы его юности: но, в то же время, в ней безусловно отразилось и подлинное, хотя до того смутное настроение большинства поселенцев.
Ландру первый провозгласил то, что нынче является для каждого из них символом веры: что колония ссыльных на о. Тристан-да-Рунья есть высший и лучший мир, нежели тот, который остался позади за океаном. Организация и иерархия – искусственные лекарства, нужные только для больных или умирающих обществ, а тут у нас община, полная живучего здоровья. Порядок нужен, но он складывается сам собою, потому что он и есть нормальное положение вещей; лучшее средство обеспечить его навсегда – это не портить его надуманными учреждениями. А если случатся отдельные нарушения порядка – они встретят свое противоядие, здоровый инстинкт и здоровые кулаки большинства, и не нужно ни этому инстинкту, ни тем кулакам никакого внешнего руководства.