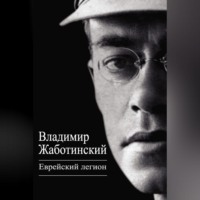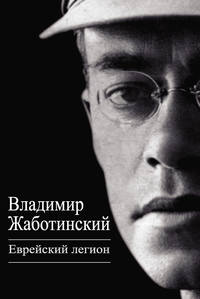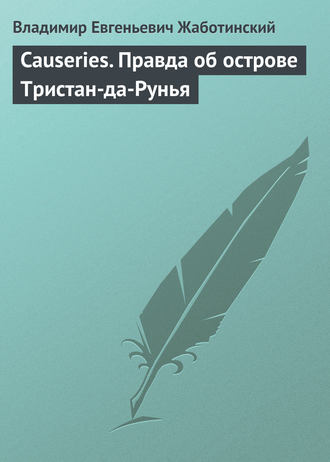 полная версия
полная версияCauseries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Исторически эту противоположность презумпций понять нетрудно. Европейские конституции родились из недоверия, вскормленного опытом ряда поколений, которые все страдали от гнета государственной власти; поэтому главное содержание наших конституций представляет собою развитие начал опаски и надзора снизу. Собственно говоря, давно уже следовало ожидать, что придет, наконец, поколение, для которого звуком пустым будет память о царе Горохе Нечестивом, его загребущих воеводах и его шемякином суде. Вот оно и пришло – поколение, не помнящее батогов.
Презумпция доверия! Не только доверия к определенному «вождю» – который случайно может и взаправду оказаться гением – а доверие вообще. Мы когда то с негодованием повторяли известную поговорку: кто палку взял, тот и капрал. Наши дети вполне способны принять эту поговорку без всякого негодования.
Как то в Италии я пытался выяснить отношение знакомых фашистов к вопросу о преемнике Муссолини. Вы, мол, считаете его гением, исключительной игрою природы; допустим. Но ведь вы утверждаете, что система управления страной без выборного контроля, через самодержавие верховной единоличной воли, есть вообще и на все времена лучшая из государственных систем. Что же сделаете вы, когда «гения» не станет? Вы ведь сами понимаете, что гении пачками не рождаются. Где вы найдете второго?
Ответы я получил неясные и неточные (это было в 1924 году, теперь, может быть, они бы отозвались определеннее); но общее впечатление у меня получилось.
– Мы и не станем искать гения, – отвечали они. – Сверхчеловек нужен был только для почина, для введения нового порядка и создания традиции. Преемник и продолжатель уже может быть просто средним человеком, и мы будем вполне довольны. Конечно, так блестяще, как Муссолини, он править не будет, от времени до времени будет делать ошибки; но в общем, получится, вероятно, вполне приличный правитель; и уж во всяком случай дело управления пойдет в его руках лучше, скорее и дешевле, чем у конституционного кабинета с его гвалтом и коррупцией – с его полутысячей праздношатающихся завсегдатаев громадного кафе, именуемого палатой депутатов.
Если я верно их понял, то это не «культ героев», которым мы часто корим новую молодежь: или, точнее, это культ героев только вначале, а потом он постепенно превратится в культ первого встречного. Хотя бы по жребию? Может быть. Может быть, и в этом есть некая неожиданная ипостась того принципа, который мы называли нелюбимым у них именем «демократия»; новое перерождение идеи равенства применительно к духу поколения, лозунг которого – «иерархия»; поколения, не знавшего эпохи проблем и рожденного в эпоху аксиом… или так ему кажется.
И, тем не менее, две проблемы война все же нам оставила, пацифизм и коммунизм. Первый из них не является самостоятельным, особо организованным народным движением, а скорее важной заповедью многих других движений; поэтому проследить отношение молодежи к пацифизму путем арифметического подсчета нельзя; с другой стороны, все разновидности фашизма в доброй дюжине стран открыто бряцают кинжалами, и ведь это все молодежь. Коммунизм – другое дело, тут и считать не стоит: коммунизм Западной Европы – почти сплошной комсомол, где редко блеснет единичная лысина.
Но я бы все же не сделал из этой – с птичьего полета подхваченной – партийной статистики вывода о внутреннем отношении новой молодежи к войне и советскому строю; особенно к последнему. «Душа» человеческой массы не всегда определяется программными ярлыками, которые она приемлет или отвергает. Целый народ иногда кричит: «хлеба и зрелищ!» – а потом оказывается, что главной чертой эпохи была тогда жажда новой религии. Далеко не всегда люди, особенно в юности, точно понимают, чего они жаждут; а именно эта жажда, именно вкусы и аппетиты поколения больше всего определяют его «душу». Вкусы и аппетиты поколения приходится иногда выяснять не через опрос Ивана да Марьи, а по признакам объективным, например, по характеру тех духовных факторов, которые играют главную роль в их воспитании.
Все, вероятно, согласятся, что ни семья, ни школа теперь (и уже давно) не играют в массовом воспитании не только главной роли, но и вообще никакой. Важнейшим определяющим фактором в этой области считалась литература, но теперь и ее, конечно, оттеснило на десятый план другое влияние.
Странно: высокомерное презрение к кинематографу уже не в моде, но до сих пор еще неловко говорить о кинематографе «всерьез», – так, как говорят о литературе или печати. Если бы я мог назвать три или четыре книги, пользующаяся у молодежи популярностью, и выводы свои построил бы на влиянии этих книг, это было бы в порядке вещей; а сослаться на фильм «Звезда красного дьявола» – несерьезно. Утешаю себя тем, что, вероятно, еще во дни Марло, или даже Шекспира, или еще позже – Гольдони, солидные умы считали несерьезным, в качестве проводника воспитания, учитывать театр: ссылались на него только попы, в качеств источника разврата. Я, однако, рискну; вместо предисловия только напомню, что у самой популярной книги за год не наберется столько читателей, сколько зрителей у среднего фильма за одно воскресенье. Это очень обидно для нашего интеллигентского снобизма, но это так: нравственное влияние книги и театра теперь мелкая мелочь по сравнению с влиянием экрана. Времена так изменились, что сегодня, напротив, наивно было бы сослаться на печатный роман или на театральную пьесу в объяснение какой либо струи общественного сознания: волшебство их давно выветрилось. Поскольку вообще на душу поколения воздействует не жизнь, а выдумка, вся монополия такого воздействия давно перешла к кинематографу. Ссылку на него я считаю не только серьезной – только ее, в этой области, я и считаю серьезной.
А ударная сила фильма сосредоточивается, главным образом, в двух приемах: во-первых – физическое действие, во вторых – оказательство роскоши. Во всем остальном мощность экрана вряд ли многим выше того, что дает театр или книга; но непосредственное переживание движения, во всех мыслимых формах, дает только фильм; и совершенно неподражаема та яркость, с которой он дает зрителю ощущение богатства. Я говорю не только о дворцах и нарядах: сюда же относятся, например, картины заморской природы, потому что у каждого зрителя, без исключения, они вызывают одну и ту же мысль: будь я богат, повидал бы и я Ниагару! Больше того: но мне кажется, что даже на женскую красоту средний посетитель кинематографа реагирует тоже в форме тоски о финансовом могуществе: будь я богат, поехал бы на сезон в Париж… Красавица на экране может быть и нищенкой, но зритель ее лохмотьям не верит: он знаете, куда уходят красавицы.
Было бы нельзя думать, что такое воздействие может пройти бесследно. «Социальная» психология современной молодежи сложилась под знаком огромного гедонизма: аппетит к личному наслаждению у нее такой, какого еще в истории не бывало. Большие аппетиты, как известно, никогда не рождаются из голода: они приходят en mangeant по мере частичного насыщения, в ту минуту, когда нищему впервые дали полизать плитку шоколада. Когда мы были молоды, нищий знал о шоколаде только понаслышке; мечты его не шли дальше колбасы. То была психология, прекрасно выраженная в анекдоте о фантазии чигиринскаго мужика: «кабы я був царем, то украв бы сто карбованцев, тай утик». Даже социальные мечтания организованных пролетарских коллективов, несмотря на все дерзновение их политических лозунгов, в сущности, шли тогда не многим дальше этих ста рублей. Во дни нашей юности английских рабочих вполне вдохновляла знаменитая формула: восемь часов для труда, восемь для сна, восемь для забавы, и восемь «бобов» (шиллингов) в день. Во Франции и в Италии они пели еще проще: жить, трудясь, – или умереть, сражаясь! – Все это было и быльем поросло. Фантазии современной бедности простираются гораздо дальше и выше; но вы погодите, пока у руля станет, подросши, нынешняя молодежь, – вот когда мы услышим полную симфонию гедонизма.
Комфорт, даже роскошь, давно перестали быть для простолюдина диковиной. Заклятый ненавистник всех видов громкого искусства, особенно в домашней форме, я еще до войны не любил проходить по рабочим кварталам Берлина: за каждым третьим окном сидела пролетарская дочь, «насилуя простуженный рояль» – скажем скромнее, пианино, это в смысле шумности одно и то же. Теперь это стало еще дешевле: граммофон, радио. Американский рабочий теперь уезжает с семьею в горы, на «конец недели», в собственном форде, и жена ворчит, требуя, чтобы он купил «настоящий автомобиль» (они в Америке это строго различают: «в прошлом году у меня был форд, а теперь – автомобиль»). Когда бельгийский «Vooruit» много лет тому назад, начал строить просторные рабочие клубы, вся Европа ахала; а теперь в Вене есть рабочие бани, какие, конечно, и не снились Каракалле. В центральных штатах Америки профессиональные союзы строят дворцы, которые пышнее тамошних гостиниц, а гостиницы тамошние пышнее, скажем, замка Борромео на Изола Белла. Есть и еще более волнующие контакты рабочего с роскошью, порождение всеобщего избирательного права: мой парижский сосед, слесарь по ремеслу, ходит на заседания к социалистическому вождю, а у того прекрасный особняк в лучшей части города, и сам он считается руководящим модником в палате; описывая обстановку, мой слесарь сказал восторженно: Merde! Это у французов очень многозначительное слово; может быть и сам тот щеголеватый преемник Жореса не понимает, насколько оно в данном случае многозначительно.
Но, конечно, все это пустяки в сравнении с тем потрясающим раздражением аппетита, которое дети моего слесаря выносят трижды в неделю из кинематографа (ибо в нашем околотке десятой музе посвящены три храма). Много уже о том писалось, писал и я, что у бедноты очень популярны именно фильмы с роскошью. Что за сады, какие залы, что за туалеты им показывают! Лично я, по мещанской своей недоверчивости, никак не могу отделаться от подозрения, что все это преувеличено, что герцогине рагузской просто не на что было бы купить такой пеньюар, какой, ее изображая, любимица моя Норма Т. залила давеча кофеем в порыве любовного потрясения; но дочки моего слесаря ей верят. А сколько их было в тот вечер в дешевых рядах – слесарских дочек, кухаркиных сыновей, – если посчитать на всю Европу и всю Америку? И не в одних рабочих дело: есть молодежь и у многомиллионного мещанства, с аппетитами еще более отзывчивыми.
Если бы даже не было на свет ни красной, ни социалистической розовой агитации, – прогноз для молодежи, растущей под такими влияниями, ясен. Поход бедности на богатство, борьбу за право наслаждаться они поведут с еще неслыханным исступлением. Каждое новое завоевание на этом пути только заострить их аппетиты. Это уже не будет, как во дни нашей юности, бунт ничего не имущих против все имущих. С каждым шагом это все больше будет походить на войну между соседями, едва размежеванными последней перегородкой: это, как известно, самая свирепая разновидность войны.
Но в то, что они вырастут коммунистами, я по этой самой причине мало верю. Хорошо ли коммунизм или плох, к делу тут не относится; но он не примирим с «аппетитами», он излучает погоню за неограниченной полнотою этого наслаждения. Какие бы ни сулил он блага всему коллективу, на личность он налагает долг аскетического самоограничения. Обетованная земля этой молодежи – Сибарис, а не Спарта. Каждый из них спокойно и цепко хочет мрамора и жемчугов, или собственного биплана, или своих коней на ипподроме; я подозреваю, что многим из них, именно слесарским детям, достижение мерещится даже в форме штата молчаливых холопьев, с поклоном подающих шубу, с грацией подкатывающих столик на колесиках, а на столике – нектар, амброзия и устрицы. Воевать против богатых они будут зубами и ногтями – чтобы отведать богатства; но закрыть себе самим дорогу к богатству? Об этом естественно мечтать поколению, которое в детстве не видело того пеньюара Нормы Т. В глазах нынешней молодежи сверкает совсем иное желанье. Когда она подрастет, застонут от налогов миллионеры, как еще никогда не стонали; но миллионеров будет вдесятеро больше.
Об этом я не так сокрушаюсь. Гораздо больше тревожит меня их отношение к войн и миру. Наше поколение в 1918-м году действительно верило, что это – в последний раз. Я даже думаю (несмотря на все новые с тех пор кровопролития, неизбежные отплески пролетевшей бури), что у нашего поколения это настроение прочно сохранилось до сих пор: пока мы еще на свете хозяева, мы большой войны не допустим. Но двенадцать и десять лет тому назад нам казалось, что и дети наши так же ненавидят резню; что кровавая гадость, в которой четыре года барахтались их отцы и старшие братья, и им нестерпимо противна. Теперь часто себя приходится спрашивать, не ошиблись ли мы; и более глубокий встает вопрос – может ли вообще одно поколение «научиться» чему бы то ни было из опыта своих предшественников?
Италия в ту войну страшно пострадала; кроме живых и вещественных ране, перенесла еще на полях Капоретто громадное нравственное унижение. Англичанин Хемингуэй (или американец, не помню) описал недавно тот позор в повести «Прощай оружие»: есть там совершенно гнетущие сцены – густая мешанина ошалевших беглецов прет пешком через мост, а по ту сторону моста ждут их франтоватые поручики боевой полиции, вылавливают из толпы офицеров и тут же на берегу их расстреливают, одного за другим, «за трусость». Это ли не урок? Одно время казалось, что урок подействовал даже слишком радикально. К началу двадцатых годов Италия была на краю социального развала. Опять-таки не верю, чтобы то – в перспективе – был развал большевицкого типа: скорее верх бы взял хозяйственный мужичок, один и тот же повсюду, на Волге и в Ломбардии. Здесь тоже вспоминается жуткая, хотя спокойно и лениво рассказанная книга: написал ее лет восемь тому назад Гвидо да Верона, под заглавием «А теперь хозяин – я!» Все содержание романа в этом заглавии: сидит на своем клочке крепколобый крестьянский сын, уклоняется от призыва, а после войны потихоньку прибирает к рукам господскую усадьбу; и так четко показано, что для него и война, и народное горе, и мор и глад и трус – мелочи, кочки, среди которых он пробирается к своей маленькой цели стяжания. Но в городах в это самое время под открытым небом собирались многотысячные сходки: все молодежь; на цоколь памятника вылезал человек, тыкал пальцем в грудь и гордо заявлял: «я был дезертиром!» – и ему бешено, с ревом рукоплескали. Так сильно, казалось, подействовал «урок». А теперь все мы видим, что совсем не подействовал. Будет ли воевать Италия, неведомо; но у всей молодой Италии чешутся руки воевать.
Откуда это? Я где-то читал или слышал такое объяснение: «младшие братья» виноваты, все то отрочество, что родилось между 1901 и 1910 годами. Они на войну не успели попасть, но уже видели и понимали, что творится; и вынесли из этого опыта одно чувство – зависть к старшему брату, к его геройству, ранам и погонам. Многие из них, оказывается, ждали своей очереди быть искалеченными не со страхом, а со всей сладостью предвкушения. Мир их обидел; теперь они – главная опора фашизма, и мечта их – наверстать пропущенное веселье. Есть, очевидно, еще один глубокий вопрос: мыслимо ли вообще «напугать» человека зрелищем разорванного мяса? Не скорее ли наоборот? Католичество сделало из Христа на кресте самый влекущий из своих магнитов; и не одна святая Тереза стала святою через обожание стигматов.
И не одна Италия, как видим, оказалась страною «младших братьев»…
Глубоко ли это? Надолго ли? Не знаю; но одно ясно. От нашего прямого, животного, пережитого отвращения к человеческой бойне у новой молодежи не осталось ни следа. Есть, конечно, в этом поколении и сознательные противники войны; я не удивлюсь, если они в огромном большинстве. Но у них это – взгляд, убеждение, а не тот стихийный крик отталкивания в каждом нерве, как у нас, чьи ноги месили окопную грязь вперемежку с оторванными пальцами.
И еще одно ясно: в том воспитательном воздействии, под которым они растут, культ физической силы, мускулов и затрещины занимает беспримерно видное место. Чего стоит вся трещоточная солдатчина прежней Германии, с кайзером и с аллеей Победы и со знаменитым гусиным шагом пруссацкого парада, – если сравнить это с той суммой уроков насилия, которую выносят наши дети из кинематографа?
Прошу не подумать, будто я морализирую или протестую. Бесполезно протестовать против абсолютной неизбежности. Фильм не может быть иным. Это связано с его природой. Тут совершенно не виноваты сочинители сценариев, и никакая цензура не поможет. Фильм должен быть наглядно драматичным; драматизм немыслим вне борьбы; а борьба, наглядная для зрения, не может не выразиться в физическом столкновении. Книге или пьесе доступно изображение борьбы психологической; на экране, даже если он говорящий, это трудно и чаще всего скучно. На экране заключительный, кульминационный аккорд всякого психологического состояния приходится выразить в форме жеста. А как называется тот «жест», в котором ярче всего выражено понятие борьбы и победы?
Надо еще одну черту экрана принять во внимание, чтобы вполне оценить всю глубину этой стороны его гипноза. Фильм, по сравнению с книгой и театром, отличается большим этическим оптимизмом. Тут почти всегда добрый побеждает злого, бедный богатого, угнетенный угнетателя. Это тоже неизбежно: экран не книга, обслуживающая ту или иную категорию читателей, у которой могут быть вкусы какие угодно; экран должен приспособляться к огромной этической чувствительности средних масс. Оттого здесь неизбежен всегда один и тот же рецепт: угнетенная добродетель страдает, публика ей сочувствует, публика начинает ненавидеть обидчика, публика ждет не дождется, чтобы ему воздано было по заслугам; настроение это нарастает и густеет; вот обидчик затащил бедную сиротку в свою берлогу, и надежды больше нет – но вдруг пред нами горная тропинка, Том Микс скачет на выручку, и уже из дешевых рядов вырываются нервные рукоплескания; Том доскакал, Том вышиб окно – и высшее осуществление справедливости выливается в том самом «жесте», и понятие того «жеста» сливается в эту секунду действительно со всем лучшим и самым чистым, что есть в молодой душе – но в рев восторга, которым откликается на этот акт священнодействия отроческая масса зрительного зала, слышится мне голос завтрашнего пороха.
…А впрочем – они, вероятно, будут не хуже нас, и еще лучше; когда племя незнакомое перерастет и заслонит от глаз прохожего глаза наших знакомцев, включая вас и меня, прохожий, имя которому история, ничего не потеряет; и не о чем беспокоиться. «Здравствуй, племя…»
1930Бабий ум
Речь на дамском банкете
Когда мужчина выступает в роли крайнего феминиста – враги скажут: в роли «суфражистки», – это всегда выходит смешно. Причины я не знаю, но оно так. Поэтому в подобных случаях мы, мужчины, стараемся придать такой речи или статье тон отменно легковесный: чтобы можно было потом отречься – «это я не всерьез». Мы, так сказать, заранее приготовляем себе нравственное алиби. Я, малодушный, сегодня тоже последую этому осторожному обычаю; есть у меня на то еще одна причина и еще один предлог. Причина, что я в истории человек неученный; а предлог – что вообще на банкетах принято оратору глубокомыслия избегать, а за то блистать остроумием. Я, однако, принимаю на себя выполнить только первую часть этой двусторонней программы. Но прошу верить: при всем малодушии, алиби я себе не готовлю. Несмотря на фельетонный оттенок предстоящей застольной речи – это всерьез. Я действительно верю, что в роли государственного деятеля женщина больше на своем месте, чем мужчина.
Спор о праве женщины на политические права можно считать законченным. Но остается спор о том, годится ли она для этой функции, способна ли она использовать эти права так же хорошо, как мужчина. В этой области спорить гораздо труднее: тут нужны не доводы от разума, а факты из опыта, фактов же этих мало. Политическое равноправие женщины – дело вчерашнего дня. Тот небольшой опыт, какой уже накопился, говорит как будто не в вашу пользу. Дамы, очевидно, сами не склонны добиваться парламентской карьеры, иначе их было бы в разных палатах много больше. Те, которые прошли в народные представительства, пока особенно не выдвинулись. Найдутся, конечно, утешители, которые вам скажут, что начало ничего не доказывает. Я же, напротив, склонен думать, что в этом мало блестящем и малообещающем начале есть нечто характерное и даже органическое. Парламентское дело есть дело борьбы, притом борьбы публичной, на глазах у всего народа. Женщина, я думаю, действительно не любит проталкиваться локтями, и еще на площади, под тысячами биноклей.
Но вопрос в том, является ли депутатская деятельность главной формой политической деятельности. Я бы, например, с этим не согласился. Наполеон, вероятно, оказался бы далеко не блестящим членом конвента; г. Муссолини, пока был просто депутатом, тоже, кажется, никаких лавров не пожинал. Тут пред нами два лица, которым Бог дал великий талант именно проталкиваться локтями; и даже именно на площади; а все-таки – не на трибуне. Дело в том, что главное поле государственной деятельности – совсем не трибуна, а кабинет. Хороший государственный деятель – это не тот, кто умеет спорить, а тот, кто умеет править.
По вопросу же о том, способна ли женщина править, исторический опыт имеется, хотя о нем часто забывают, Все мы со школьной скамьи знаем о женщинах, сидевших на престоле, точнее, о женщинах, сидевших на престоле не в качестве мужниных жен, а в качестве самостоятельных государынь. Это мы все знаем; но одно, когда мы были на школьной скамье, нам забыл сказать учитель истории. Именно – простую статистическую справку: процент «великих» цариц среди цариц, по сравнению с процентом «великих» царей среди царей.
Попробуем наскоро и наизусть вспомнить старый наш учебник. Это, между прочим, дело не легкое. Бог его знает, зачем нас обучают всем наукам в гимназиях: ведь к двадцати пяти годам никто ничего не помнит, Как то в старом Петербурге, вечером, в очень молодой компании, при мне кто то устроил повальный экзамен по всему курсу средней школы. Были там барышни и мужчины; некоторые окончили курс с медалями. Среди барышень была одна учительница; она, конечно, выдержала допрос, но ведь она не в счет. Все остальные, обоего пола, срезались; абсолютно, чудовищно, гомерически срезались. Доказать пифагорову теорему не сумел никто; но половина даже не помнила, о чем эта теорема.
Династия Романовых была представлена в пяти вариантах, и в лучшем из них была пропущена Анна Иоанновна. На вопрос: «Что такое гидростатический парадокс?» ответил лишь один, а именно: «броненосец железный – а не тонет», Ответы были частью письменные, так что экзамен правописания получился сам собою, и тоже безотрадный. Все это я упоминаю не в скобках, а с умыслом: тут я, действительно, заранее готовлю себе если не алиби, то смягчающую вину обстоятельства. Мы решили вспомнить учебник, и вспоминать буду я – а помню плохо. Это именно я тогда представил список Романовых без Анны Иоанновны, и то лет двадцать пять назад. Поэтому за абсолютную точность моей статистики не ручаюсь. Но за вывод – вполне.
Да будет мне позволено начать с истории моего собственного народа. Цариц-правительниц было во Израиле всего две: Аталия (на языке синодального перевода Гофолия) в глубокой древности, и Александа-Саломея в конце маккавейской династии, лет за семьдесят до христианской эры. Аталия была, вероятно, женщина замечательная, но царица плохая; или так, по крайней мере, говорит библейский летописец, который явно ее не любил. Но Саломея была чрезвычайно хорошая царица; в позднейшие времена такую прозвали бы если не великой, и то «доброй», или «справедливой», или «благословенной», хотя процарствовала она всего только десять лет.
Читаешь у Иосифа Флавия историю этих последних маккавейских царей – словно уголовный роман: братоубийства, отцеубийства, яд, поджоги, измены, смута, гнет… И вдруг – десять страничек оазиса: Саломея. В стране покой, у власти прочно стоит одна и та же партия, притом самая толковая: фарисеи, по психологии нечто вроде консерваторов английского типа; процветает правосудие и благочестие; несколько войн в Иордании кончаются удачно – царица, очевидно, с толком выбирала не только министров, но и генералов. Об экономическом положении страны во дни Саломеи есть такая справка в Талмуде, характерная и по своей наивной образности, и по тому, что вообще Талмуд очень редко сочувствует женщине в роли начальствующего лица: во дни царицы Саломеи маслины были величиною с грушу. Или в этом роде. Может быть, фрукты не те, но пропорция та. – Саломея умерла, и опять началась уголовщина, и от царя-мужчины к царю-мужчине так и докатились династия и страна до гибели.
Одна из двух цариц: пятьдесят процентов. Среди царей-мужчин, от Саула до Аристовула, пропорция дельных правителей во Израиль далеко не столь же лестная.
Перейдем теперь к русской истории. Правящих цариц было в России, собственно, четыре: Екатерина первая, та самая Анна Иоанновна, Елизавета и Екатерина. Анна Леопольдовна, регентша в течение нескольких месяцев, не в счет. Собственно не в счет и Екатерина первая – она провела на перстоле два года. По настоящему в России царствовали только три женщины, и одна из них была Екатерина вторая, Но я согласен, для статистики нашей признать четырех; согласен даже на пятерых. В ряду царей-мужчин московских и российских того не бывало, чтобы не только тридцать три с третью, но и двадцать процентов из них заслужили всемирно-признанный титул «великих».