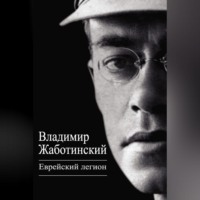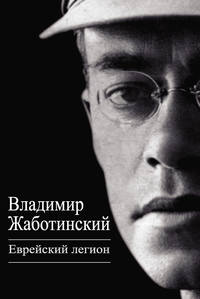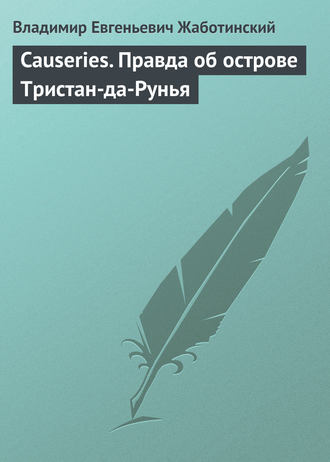 полная версия
полная версияCauseries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Как удалось ему все это объяснить поселенческой массе, я не знаю. К этому времени (двенадцатый год поселения) начал уже складываться у них своеобразный общий язык, смесь из осколков из двадцати и больше наречий Европы, Азии и Африки, но словарь его был еще слишком беден для таких сложных мыслей. Тем не менее, эта часть их истории – не легенда, а бесспорный факт. Борьба Ландру против государственнических попыток несомненно имела идейную основу, и ее идеи каким то путем усвоены были массой. Все ссылки на этот период в собранных мною материалах производят неоспоримое впечатление подлинности.
Спор этот окончился одним из тех взрывов, которые и имел в виду Ландру, когда говорил о «естественных противоядях». Под его личным водительством, «философы» и довольно большая толпа их сторонников были перебиты судом Линча.
Нынешний строй колонии, почти сверху до низу, отмечен личной печатью этого человека. Ландру не был ни королем их, ни президентом, ни законодателем; не был даже «специалистом» в том смысле, какой здесь приняло это слово. Он был такой же дровосек и водонос, как все. Но каждая ветвь их общественного быта, их отношение к собственности, их понятия о семье и «браке», методы кооперации, распланировка селений, даже архитектура публичных зданий в Черко, – все (за одним только исключением – школы) создано Ландру.
Этот строй я попытаюсь описать во второй статье.
Вторая статья м-ра ФлетчераПеречитывая рукопись вчерашней аэрограммы, вижу, что мне совершенно не удалось передать главную, хотя и неуловимую особенность колонии на о. Тристан-да Рунья: именно – странность, необычайность этого мирка. Когда я был на острове, каждый шаг мой сталкивал меня с явлениями, резко непохожими на оба знакомые мне быта – на быт цивилизованной современности с одной стороны, на быт полудиких племен (их все еще можно найти в Центральной Африке) с другой. Лица поселенцев, их одежда, язык, интонация, обхождение, вид их улице, их повозки и упряжь, – все не похоже на наше, все говорит о психологии и методах мышления, для нас непривычных и неожиданных. О расовом их типе и о языке я еще буду писать, но сознаю, что полнотою воздать должное их своеобразно могло бы только перо художника. Одно, по крайней мере, прошу читателя иметь в виду: даже теперь, просматривая записи и диктуя отчет, я все еще не в силах отделаться от какого то чувства нереальности, точно хочется мне спросить себя: да было ли это на самом деле, и ты действительно видел?
Мои впечатления далеко не все одинаково отрадны. Я был бы очень рад, если бы мог донести: Тристан-да-Рунья и есть осуществленная Утопия. Но он не есть Утопия. Это – очень интересный микрокосм, но хотел ли бы я там остаться – другой вопрос. Это – страна бытовых навыков резких и жестких, страна упрощенных взглядов и обычаев, которые зачастую неприятно действуют на цивилизованные нервы. Но в одном я уверен: эту крохотную страну ждет замечательное будущее.
Как уже сказано, на острове нет ничего похожего на «власть», общую или местную. Народные собрания, с участием всех мужчин, были одно время в моде – в среднем периоде их истории, в эпоху Ландру и его реформ. Но тогда это было необходимо в виду наличности «новых фактов», например – в виду прироста женского населения, который едва не привел к катастрофе. За последние двадцать лет колония развивалась без скачков и без неожиданностей, каждый новый день был нормальным порождением вчерашнего, проблем нет, нет и нужды в собраниях. Единственные «правила», более или менее законодательного происхождения (да и то в смысле неписанного закона) – это то, что ввел – или, вернее, проповедовал Ландру, между двенадцатым и сороковым годами их летоисчисления. Все остальное – обычное право: пожалуй, очень любопытная смесь обычаев, выхваченных из мудрости двадцати наций и пяти религий.
Хозяйственный строй у них – чисто индивидуалистический; земля разделена на участки, и о жалобах на запашку чужой земли не слышно, просто, верно, из взаимного страха суровой расправы. Каждое хозяйство, даже у неженатого, поставляет все свои нужды; поселенец должен сам выстроить избу, сам смастерить инструменты, сам ткать и починять свое платье. Тенденция к разделению труда, одно время было наметившаяся, умерла вместе с «философами». Прочен ли такой порядок, я судить не берусь, не будучи экономистом. Думаю, однако, так: если население не перерастет вместимости острова (на то пока нет указаний), и если «трактат Дзандзарелла», отрезавший остров от мира, останется в силе, то нет причин, почему не уцелеть этому последнему убежищу патриархальной экономики.
Есть, в особенности, один отрицательный фактор, который является главной опорой патриархализма: отсутствие металлов. Цивилизация Тристана есть цивилизация без железа. Остров этот – живой урок влияния орудий производства на всю структуру общества. Некоторые из их инструментов говорят о недюжинной изобретательности. Я сам видел нечто вроде «машинной» молотилки, сделанной целиком из дерева; в следующей статье упомяну «обсерваторию» на горе Ландру и «печатню» в Черко. Но всей этой природной находчивости положен тесный предел: нет именно тех материалов, которые послушны человеку безгранично, которые он может ковать и отливать как ему угодно. При таких условиях просто не стоит ломать голову над усовершенствованиями: мало чего добьешься, кроме морального удовлетворения. Оттого изобретательством интересуется только маленький кружок интеллигенции, основанный Александром Ахо и предводимый теперь Иосифом Вербой.
А в то же время – Тристан-да-Рунья может когда-нибудь еще стать доказательством, что эта самая зависимость культуры от орудий производства далеко не абсолютна. У меня сложилось твердое впечатление – и в третьей стать моей я попробую передать его и читателю, – что в смысле духовных достижений, эта колония далеко пойдет, и некогда еще подымется до больших высот – несмотря на неизбежную и непоправимую отсталость своей экономической системы.
Чтобы покончить с вопросом о социальной дифференциации на острове, хочу упомянуть еще одно свое наблюдение – хотя поселенцы, которым я сообщил его, все в один голос уверяли, что я ошибаюсь. По-моему, в их среде явно назревает – мне сейчас придется употребить очень неожиданный термин – аристократия. Не имущественная (в этом отношении больших различи еще нет), а родовая. Сами они еще этого, очевидно, не сознают, но общественное положение раннего поселенца или его потомства несравнимо выше, нежели удельный вес не только совсем «зеленого» новичка, и даже и такого, который прибыл лет двадцать тому назад. Дело в том, я думаю, что в истории острова резко выделяются два основных момента: первый – резня «философов», второй – те годы, когда Ландру установил брачные порядки поселения. Первое из этих событий определило общественный и государственный строй маленькой колонии – упорядоченную анархию; второе, из хаоса, грозившего выродиться в свальную животность, выработало основы их семейного быта. То, что прибыли до этих двух родовых судорог, положивших начало странной и крохотной этой нации, и, конечно, их потомство – и образуют, по-моему неизбежно, аристократию общества; не только в будущем, но и теперь. В Черко, на большом певческом празднике, я с удивлением заметил, что толпа, довольно буйная по настроению, оставила незанятыми два первых ряда скамей, хотя никаких распорядителей не было. Вокруг остальных рядов шла бесцеремонная давка, но никому явно и в голову не приходило занять передние места. Их «собственники» пришли попозже, очевидно уверенные, что найдут свои скамьи свободными; одеты они были, как все, выглядели так же точно по-мужицки, но вся осанка и повадка говорила о сознании некоего превосходства. У этого класса есть и особая кличка – «ной»; Иосиф Верба производит ее от праотца Ноя, но мне кажется, что на языке одного из каффрских племен именно так называют бар.
Проблема пола в истории Тристана – тема, о которой трудно писать в газетной статье. Многого придется пока едва коснуться полунамеком. Для поселенцев эта проблема оказалась, понятно, мучительным, чуть ли не трагическим испытанием.
Не только теперь, но и шестьдесят лет тому назад женская преступность была, по сравнению с мужской, явлением более редким (хотя среди настоящих «прирожденных» преступников разница эта была, кажется, несколько менее велика). Первый договор о превращении Тристана в место ссылки не содержал никаких особых положений о женщинах. Вопрос возник и обострился только через год после отправки первой партии, когда медицинская комиссия при международной судебной палате утвердила соответствующий приговор над двумя женщинами – убийцами. Целый ряд женских организаций в Европе и Америке выступил тогда с протестом, заявляя, что недопустимо подкинуть двух одиноких женщин, кто бы они ни были, в среду полусотни мужчин, и притом таких мужчин. Высылку отложили. С другой стороны, никаких прав на общественное сочувствие обе дамы сами по себе не имели: они вдвоем содержали в течение долгих лет так называемую «фабрику ангелов» – брали на «воспитание» незаконных или вообще нежеланных малюток и своевременно их отправляли в лучший мир. В ответ на упомянутые протесты женских организаций, послышались и противные голоса (тоже по большей части женские): эти требовали восстановления смертной казни, – о чем, конечно, не могло быть речи. Как известно, даже тюремное заключение выше десятилетнего срока было, по «договору Дзандзарелла», отменено, чтобы каждому грешнику, если он не является прирожденным преступником, дать еще возможность искупления.
Получился тупик; и путаница стала еще путанее, когда две сессии медицинской комиссий, одна за другою, утвердили целых семнадцать «тристанских» приговоров над женщинами. Три из них были француженки; их адвокат, одно из светил парижского барро, нашел единственный разумный выход из затруднения – он поставил этот вопрос своим клиенткам. Вс три подписали прошение о ссылке на о. Тристан-да-Рунья. Парижскому примеру последовали остальные адвокаты. Из девятнадцати, только четыре женщины отказались подписать такое прошение.
Результатом явилась известная поправка к договору – поправка, разрешающая женщинам выбирать между Тристаном и другими формами кары, какие (за исключением смертной казни) будут установлены законами отдельных стран. Принята была и другая поправка: что женщин будут высаживать только группами не ниже определенного количества.
Вот как произошло то, что в состав четвертой партии ссыльных, прибывшей через полтора года после высадки первоначальной группы, оказалось пятнадцать женщин. Еще одна партия женщин прибыла годом позже.
Даже самая осторожная попытка описать то, что творилось на острове в течение ближайших нескольких лет, была бы неуместна на столбцах общедоступной газеты. Это был хаос, и притом перманентный. Единственная хорошая сторона была в нем та, что самая распущенность нравственных понятий в этой среде не давала развиться конфликтам: при таких условиях не могло быть места ревности. Тем не менее, ссоры, драки, даже убийства сильно участились за те годы; но, по крайней мере, хоть не дошло до всеобщей взаимной резни.
Ландру задумался над этим положением с самых первых лет своей карьеры лидера. К началу пятнадцатого года тамошней эры, картина была, приблизительно, такая: высажено было всего около тысячи, из них выжило до семисот, причем, почти все умершие были мужчины. Напротив, из полутораста женщин, почти все еще были в живых, что можно было объяснить тремя причинами: они тогда не знали труда, не рожали детей, и средний возраст их был значительно ниже мужского. Таким образом, на острове было по одной женщине на каждых трех-четырех мужчин.
Ландру сообразил, что эта пропорция уже открывает некоторую возможность приступить к постепенному упорядочению хаоса; по крайней мер настолько, чтобы на острове начали появляться дети. Но и то, по-видимому, понадобилось все влияние, все терпение, а также и вся беспощадность Шарля Ландру, чтобы осуществить первый шаг в этом направлении. В моих заметках говорится о народных собраниях, о поединках, о массовых свалках, о нескольких судах Линча… но, в конце концов, реформа была проведена.
Это была полиандрия. На первых порах даже меньше: просто – если позволено так выразиться – сфера влияния каждой женщины была ограничена тремя или четырьмя определенными поклонниками. Но и то уже был значительный шаг вперед. Понемногу начало изменяться отношение женщин к этим самым «сферам влияния»: из самок он стали постепенно превращаться во что то вроде участниц предприятия, стали интересоваться удачами и невзгодами своих «мужьев»; «Они начали» – пишет Иосиф Верба – «чинить им платье, что было бы немыслимо в предшествовавшем периоде».
Первые колыбели на острове появились в семнадцатом году: скоро они сделались, если не частым, то обычным явлением. Нечего и говорить о том, как оно отозвалось на психологии самих женщин, – не только матерей, но всех. Каждые роды были тогда особенно важным событием как раз для бездетных женщин во всех углах острова.
Следующий шаг произошел сам собою, без прямого давления Ландру; постепенно сложился распорядок, по которому большинство женщин оставалось на долгие сроки в одной и той же землянке, особенно если рождалось дитя. Это, опять-таки, не прошло без драк и убийств, но все же обычай до некоторой степени укоренился – и позволил Ландру приступить к завершению своей реформы.
В двадцать пятом году Ландру выдвинул мысль о моногамических браках на определенный срок. В этом ему помог, или даже наставил на путь, другой замечательный человек – Сантерри (Александр) Ахо, бывший пастор, родом из Финляндии, где, кажется, эта система уже и в те годы не исключалась законом. Опять начался долгий период народных собраний и частных ссор, хотя знамением времени была на этот раз сравнительная редкость побоищ. Но у всех бескровных революций есть один недостаток – их завоевания очень медленно укореняются. На этот раз понадобилось пять лет для проведения реформы, и еще лет десять после того тянулась полоса рецидивов и других перебоев системы. Тем не менее можно сказать, что теперь система эта прочно держится уже двадцать лет, с теми, конечно, нарушениями, какие неизбежны в любом человеческом обществе.
Система очень проста: «брак» заключается на любой срок, но не больше трех лет. Есть любопытные детали, но о них я тут говорить не могу. Вообще признаюсь, что эта сторона местной жизни оставила во мне впечатление чрезвычайно тяжелое. В то же время, однако, вряд ли кто-нибудь мог бы придумать другой, более благопристойный – и притом реально возможный – выход из положения. Когда поколение, родившееся на острове, станет большинством, установится у них, вероятно, и полная моногамия – по крайней мере, – настолько «полная», как и у нас…
Кстати, было бы несправедливо не упомянуть об одном очень отрадном результате малочисленности женщин: эти грубоватые поселенцы по-своему очень внимательны к своим подругам. Ничего романического в их отношениях нет, нет в наречии даже слова «любовь», а французское «амуре» они употребляют в очень низменном смысле; разве только среди молодежи можно заметить признаки нарождающегося более благородного настроения в этом отношении. Но женщин они все «балуют», как ни дико это звучит в применении к суровой обстановке их жизни. Неожиданный оборот дела, если вспомнить, что большинство населения вышло из среды всемирного братства апашей.
Апашам зато свойственен и другой недуг, и он свирепствует на острове не меньше, чем у нас в мире цивилизации. По «трактату Дзандзарелла» все виноградники были уничтожены, но поселенцы постепенно научились гнать алкоголь из злаков. Если бы они сделали это открытие в первые годы, все пошло бы иначе; но в первые годы им было не до химических опытов. Водка появилась позже и, между прочим, сыграла крупную роль в пропаганде «философов» – вероятно, и в контрпропаганде Ландру. Я лично видел пьяных в Черко, прямо на улице. Но порок этот далеко не всеобщий, и тому есть по крайней мере одна серьезная, органическая причина: значительная часть населения принадлежит к расам, не подверженным алкоголизму – это итальянцы, испанцы, арабы, татары. Второе поколение, результат смешения кровей, имеет значительные шансы унаследовать трезвое предрасположение. Другая черта, подкрепляющая эту надежду, есть полное отсутствие кабаков. У них вообще нет ни лавок, ни харчевен; но мне рассказывали, что лет пятнадцать тому назад, какой-то американский негр и с ним белая женщина открыли питейное заведение в одном из второстепенных поселков острова, и сразу приобрели широкую клиентуру. Скоро, однако, начались у негра ссоры с потребителями – из-за трудности найти точный способ уплаты при отсутствии денежных знаков; не было недостатка и вообще в публичных свалках. Негр оказался достаточно предусмотрительным, чтобы, не дожидаясь расправы, бросить свое предприятие, а белая женщина ушла от него до срока к новому супругу.
Этот эпизод, кстати, приводит нас к вопросу о расовом характере колонии, которым я и займусь в третьей статье.
Третья статья м-ра ФлетчераС точки зрения расы; колония на о. Тристан-да-Рунья – не только смесь; но смесь беспримерная. Среди ссыльных представлены, кажется, все без исключения нации на свете; поколение, рожденное на острове, есть результат скрещения между приблизительно пятьюдесятью породами отцов и двадцатью породами матерей.
Китай и Япония присоединились к договору сравнительно поздно, и то с большими оговорками – в этих странах сейчас еще преобладает представление об уголовной каре, как о «возмездии». Поэтому желтая раса не очень сильно представлена на острове. То же приходится сказать о черной расе. Медицинская комиссия при Международной палате очень редко утверждала «тристанские» приговоры в отношении чернокожих, отказываясь в большинстве случаев признать осужденного природным преступником; одно время это обстоятельство повело даже к раздраженной полемике и в Соединенных Штатах, и в Южной Африке.
Белое большинство зато само похоже на этнографический музей. Преобладают элементы крайние – крайний южный и крайний северный; сильно представлены славяне; англичане, французов и немцев сравнительно мало.
Склонности к обособлению я не заметил, и, говорят, ее никогда не было. Я ожидал, что найду сплоченные землячества; но состав всех двенадцати поселков острова говорит о совершенно обратной тенденции. В первое время, когда еще не было общего наречия, поселенцы, должно быть, еще группировались по языкам; но вскоре это стало невозможным. Каждая новая «высадка» (в составе которой редко можно было насчитать трех человек одного и того же происхождения) вынуждена была селиться скопом на заранее отведенном месте; таким образом, размежевание пошло по линии «старожилы» – «новички», а не по линии рас и языков. Я, вероятно, потому ожидал увидеть обособленные землячества, что судил издали по аналогии с большими портовыми городами нашего мира: белые на Востоке всюду образуют «европейский квартал», а в Нью-Йорке есть десять или больше инородческих кварталов. Но это, по-видимому, только там возможно, где и большинство, и меньшинство достаточно сильны для сплочения. Здесь на острове никакого большинства не было: все это были мелкие осколки наций, слишком ничтожные и для притяжения изнутри, и для отталкивания снаружи, особенно пред лицом всех и вся нивелирующей угрозы голода. Кром того, мир преступников никогда не отличался племенной разборчивостью: даже в штатах американского Юга, даже в Южной Африке их среда была единственной, где расовые различия не мешали ни деловому, ни сердечному сближению.
Когда появились женщины, и началась эволюция, рассказанная в прошлом очерке – от хаоса через полиандрию к срочному браку – о расовом отборе не могло быть и речи; сами женщины тоже никогда не подымали этого вопроса.
Все это я подвожу к одному выводу, который считаю чрезвычайно важным для оценки здешних перспектив; со временем, когда подрастет и переженится поколение, родившееся на острове, а ссыльный элемент – в виду все уменьшающегося притока извне – превратится в ничтожное меньшинство, – тогда раса острова Тристан-да-Рунья постепенно превратится в единственную на свет амальгаму всех рас человеческих; и притом, говоря с чисто физической точки зрения, – в амальгаму из самой, быть может, сильной крови всех этих рас.
Я, конечно, ничуть не настаиваю, что все эти ссыльные принадлежат к типу «великолепного зверя». Есть тут и «интеллектуальный» тип преступника, преемники «философов», хилые, щуплые, часто уродливые. Но они – малое меньшинство. Большинство (и мужчины, и женщины) – чрезвычайно здоровый и крупный народ. Красавцами и красавицами, конечно, я бы их не назвал: лица у белых (о красоте остальных я не судья) часто опорочены метками вырождения, и особенно это заметно у недавних иммигрантов. Зато поколение, родившееся на острове (а здесь уже имеются дети, чьи отцы и матери сами родились на острове; я даже видел такую внучку!) – это поколение поражает своим физическим совершенством, и попадаются в нем очень красивые лица. Упомянутая «внучка» местного производства, например, очень собою хороша; я сфотографировал ее на цветной пластинке, на память о том, что может иногда получиться от цепи непрерывных скрещиваний. У этой девочки римский нос; глаза чуть-чуть японского разреза, но шире; волосы у нее светло-русые, но совершенно прямые, какие бывают у краснокожих: цвет лица – как у шведки, или почти; твердый рисунок губ сделал бы честь лучшей из красавиц Шотландии, но в пределах этого рисунка – губы совершенно по восточному пухлые; а общий эффект – прелестное шестилетнее дитя.
Еще, пожалуй, интереснее – языковая сторона их быта. Ссыльные помнят, конечно, свои природные языки и, с кем могут, охотно беседуют на них. (Иосиф Верба, родом чех, и человек высокообразованный, говорил со мною на превосходном английском языке; если не ошибаюсь, он и приговорен был в Америке). Но потребность в каком-нибудь общем эсперанто стала ощущаться буквально с первого дня первой «высадки»; смело можно сказать – оно было еще нужнее, чем первая соха. В этом смысле местному наречию можно дать все шестьдесят лет; но по-настоящему его развитие началось лет сорок тому назад, после того, как на острове стали появляться дети; а превращение его из жаргона в язык письменности было заслугой пастора Ахо, начиная с тридцатых годов тамошнего летосчисления.
Они свой язык называют «анганари»; Верба думаете, что корень этого имени – французский, и притом нелестный. Я, впрочем, не языковед; лучше привести выдержку из составленной Иосифом Вербой истории острова:
«Старожилам, на глазах у которых зачался и рос анганари, выпало на долю редкое счастье, о котором они и сейчас не подозревают, но за которое дорого бы заплатил любой ученый филолог: их как бы впустили в ту доисторическую лабораторию, где создаются языки. Жаль, что они, как и предки наши пятьдесят тысяч лет тому назад, нисколько не интересовались этим процессом. Но многие из них еще с нами, и, расспрашивая их, можно иногда, словно сквозь щель забора, подметить отдельные черты тех загадочных и прихотливых методов, при помощи которых человечество создает, принимает или отвергает слова».
Главным принципом живучести слов является, по-видимому, не самая точность или меткость данного слова, а те обстоятельства, при которых оно родилось – кто его произнес, как произнес и в какой обстановке. Почему именно одна комбинация звуков «клюет», западает в память и укореняется, а другую ветер уносит, – сказать невозможно; впрочем, одна из этих причин (довольно неожиданная) кажется мне ясна – важным фактором в образовании языка является, по-видимому, чувство юмора. Вот два примера.
«Старики еще помнят времена, когда крупнейшее селение наше называлось Джерико („Иерихон“): прозвище это дал ему англичанин, участник первой высадки, по причин вполне понятной – в английском язык имя этого библейского города употребляется, как обиходный синоним понятия „на краю света“. Как из этого получилось „Черко“? Оказывается, попал на остров, много лет позже, испанец, человек на редкость глупый, и сразу стал посмешищем. Звука „дж“ он выговаривать не умел, и однажды поэтому называл „Джерико“ „Черико“ или „Черко“. Почему-то это всех рассмешило, все начали повторять исковерканное название, сначала в шутку, – а через несколько недель прежнее имя вышло из употребления.
Другой пример – имя нашего языка. К пятнадцатому году нашей эры он уже был повсюду в употреблении, и никому, конечно, и в голову не приходило окрестить его специальным прозвищем. Однажды прибыл на остров некий француз; кто-то о чем-то к нему обратился на местном наречии, француз ничего не понял, потерял терпение и закричал: „II re parle en canari!“. Это рассмешило – и потому „клюнуло“. Отсюда и пошло „анганари“. Нашелся, должно быть, грек, который – очень комично – выговаривал „нг“, вместо „нк“; потом итальянец, который – опять-таки почему-либо „комично“ – переделал на свой лад „…“ и получилось „анганалья“; потом японец тоже непременно комичный, который подставил „р“ вместо „л“, и так далее. Главное – все это должны были быть люди, произвольно или невольно действующее на чувство юмора. Шарль Ландру сказал мне однажды, что ему ни разу в жизни не удалось пустить в обиход ни одного нового слова: он нередко пытался, во время его агитации ему это было даже необходимо – но почему-то его термины не „клевали“. Я думаю – причина в томе, что Ландру был уж никак не „комичен“. Это я, впрочем, замечал и во внешнем мире – на нашем языке он называется „Айсио“ – родители, например, долго стараются обучить ребенка изысканным оборотам речи, и ничего не выходит; а на улице прохожий мальчишка показал ему язык и выкрикнул „смешное“ слово (по большей части непристойное) – и ребенок повторяет это слово, носится с ним, не хочет расстаться.