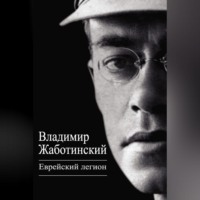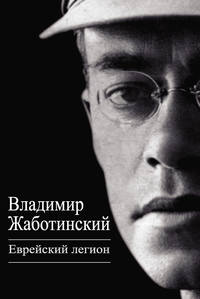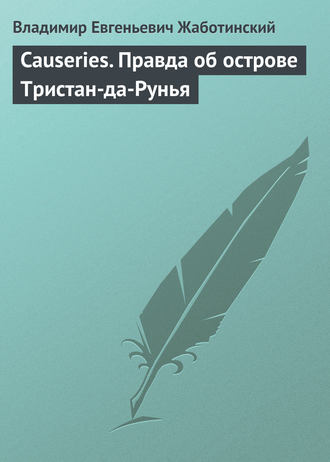 полная версия
полная версияCauseries. Правда об острове Тристан-да-Рунья
Одно, впрочем, вы подметите с первого дня, если только умеете подмечать вещи собственными глазами: Париж – самый кое-как одетый город на свете. Люди спросят недоверчиво: как так? это вы о всемирной столице моды так выражаетесь? – Именно. И эта черта нам, истинным парижанам, даже особенно любезна. И глаза, и душа отдыхают на этой мешковатой, затрапезной небрежности здешних одежде, когда вернешься сюда, например, из Берлина. Вчера я гулял по Курфюрстендаму: простор, красота, чистота, улица подобна столу, убранному для венчального пира, и все господа и все дамы на тротуарах, все без исключения одеты свадебными гостями. На каждом господине выглаженные штаны; пальто в талию; галстук и носки родственного оттенка; на башмаках сияние; шляпа новорожденная; на каждой даме надето все то немногое, что ныне полагается и чему я не знаю точно имен, но все надето и все обворожительно; не берусь описать не только потому, что не овладел терминологией, но и потому, что сразу обворожен и уж ничего разобрать не могу. То было вчера; сегодня я опять в Париже и прохожу по большим бульварам. Никакого сравнения! Даже дамы, девять из каждого встречного десятка, словно оделись наскоро и как попало, и чаще всего по прошлогоднему; а десятая, исключение, есть иностранка. Но мужчины! Брюки точно у коровы во рту побывали; пиджак нередко другого цвета; мятый воротник уж наверное не того цвета, что рубашка; это я правдиво описываю девяносто девять на сто, а сотого легко узнать – вчера же я видел его на Курфюрстендаме. Тонкие знатоки утверждают, что в этой небрежности вдесятеро больше вкуса. Возможно; я профан, и даже этого преимущества не вижу; если бы и увидел, не признал бы преимуществом. Я в этой как-попалости ищу и люблю провинциальную простоту; нечто от деда моего – или вашего – который вышел раз на улицу в одной туфле и одном сапоге, и на протесты бабушки ответил:
– А почему нельзя? Что я – француз?
Но большие бульвары, собственно, не мое дело.
Мы, парижане, живем не на больших бульварах. Вообще никто, кроме наивного туриста, не скажет: «я живу в Париже». Истинный здешний обыватель, парижанин милостью божией, как я, живет в quarter. Причем «картье» не есть некое административное деление. Картье есть бытовое понятие; почти отвлеченная идея, но в то же время и великая реальность. Прожив полгода в своем картье, вы вдруг начинаете соображать, что незаметно стали гражданином и патриотом строго обособленной общины. Сразу этого не заметишь. На улице и в лавке все с вами обходятся вежливо, но ничуть не сердечно или фамильярно. И вдруг настает день, когда аптекарь всматривается в вас, улыбается и говорить: «Обычно мы продаем ножики для бритвы без полной уверенности, что они не подержанные, но Monsieur est du quartier – я вам дам уж безусловно девственную дюжину». Это, конечно, неправда: как известно каждому безбородому, неподержанных ножиков для бритвы давно на свете нет; но добрососедское намерение приятно. Через несколько дней жена вам рассказывает, что ее в булочной спросили, отдохнул ли мосье (это вы) от последней поездки своей заграницу; кстати и поздравили с днем рождения дочери, отпразднованным третьего дня. Затем оказывается, что в кафе, где вы покупаете папиросы, дам за стойкой ведомо, в каком банке вы служите; или, если вы – общественный деятель, то она читала, как вас выбранили в листке, самое существование коего было для вас до ее негодующего сообщения тайной. Так идет оно дальше и дальше, пока вы незаметно втягиваетесь, вживаетесь в ощущение, что вы уже не просто квартиронаниматель в доме номер такой то по улице этакой, а органический кусок сплоченной бытовой среды, которая гордится вашими успехами и обижается за вашу обиду.
Знакомый профессор санскритолог рассказал мне такой случай:
– Есть у меня тут сосед и приятель; он тоже читает лекции в Сорбонне, и тоже по языковедению, только у него язык еще более чудной и необычный, чем даже мой санскрит. На всю Францию три таких кафедры. В прошлом году он издал труд по истории этого языка: одно из тех произведений, что печатаются в количестве трехсот экземпляров, а из них двести пятьдесят будут посланы бесплатно другим филологам. Но живет он в переулке, а на углу переулка есть лавочка, величиною с дифференциал, и продаются там разные домашние вещицы – иголки, открытки с картинками для горничных, газеты. Идет мой приятель мимо этого универсального магазина и вдруг видит: выставлена его книга, а на ней бумажка, а на бумажке начертано корявым почерком: «автор живет в нашем картье».
Не скажу, чтобы все это было всегда удобно. Недалеко от нас жила беженская семья, муж с женой, люди молодые и интеллигентные. Как-то весною должна была к ним прибыть на жительство барышня, кузина жены; но жене пришлось уехать по делам еще до приезда барышни, так что она поручила мужу принять кузину и устроить в отведенной для нее комнате. Привыкши к российским порядкам, они не рассчитали эффекта, какой получится в «картье». Эффект получился грустный; но не просто был это взрыв мещанской добродетели, а гораздо сложнее. Картье бы и глазом не моргнуло, если бы к одинокому мужчине приехала невенчанная с ним симпатия. Но тут они решили, что муж обидел жену – даму, которой они уже больше года продавали съестные припасы, вынимали пятна из пальто, кланялись на улице, даровали право гражданства! Официально, однако, никаких последствий сразу не последовало: картье затаило гнев и ждало возвращения оскорбленной супруги, по-видимому рассчитывая, что она расправится, изломает о кого следует зонтик, подымет вопрос о разводе… Дама вернулась; консьержки и лавочники встретили ее, как родную, со сдержанным, безмолвно красноречивым сочувствием к жертв вопиющего надругательства. Но на следующий вечер она пошла с кузиной и мужем в кинематограф. Этого картье не вынес. Поденщица подала в отставку; консьержка стала холодна (а это в Париж большая трагедия); булочник, завертывая аршинную булку, смотрел в сторону – короче, им всем троим пришлось съехать и поселиться за три угла дальше на запад.
И все же… Неловко сознаться, но сознаюсь, Я всегда считал себя человеком непреклонной самоуверенности, которому нипочем общественное мнение. Но с тех пор, как восчувствовал себя членом нашего картье, не могу не признать, что в панцире этой неподатливости появилась трещина. Только одна, но трещина. Я… я дорожу общественным мнением картье. В первый раз я это заметил, когда колбасница мне сказала:
– Вы остались без прислуги? Скоро найдете новую. У вашего дома хорошая слава в картье.
До того мгновения самым лестным впечатлением моей жизни был отзыв одной венской газеты о моем выступлении на митинге. Там было сказано, что я бывший полковник, из себя высокий и стройный. Но все затмил этот комплимент колбасницы моему домострою, хоть я в порядках своего дома столько же повинен, сколько вы, семейный читатель, в порядках вашего. И открыто говорю: мне теперь не так обидно было бы провалиться на выборах в совет Лиги наций, как обидно было бы упасть во мнении картье – а я даже точно не знаю, от какого угла до какого мое картье простирается.
А работают они, как из нас самые работящие не умеют; особенно, по-моему, их жены. Женщинам вообще в мещанском быту еще труднее, чем мужчинам. В Палестине араб едет на ослике, а жена перед ним идет пешком и тащит поклажу, и нас это возмущает; но, если вдуматься, вся жизнь так проклято устроена, что всюду мужчина, в известном смысле, катается верхом, а женщина тащится пешая и под вьюком. Для обрисовки быта здешних моих соседок я просто приведу наивное слово одной из них. Она гордо сказала: «Муж получил набавку по службе, теперь у меня поденщица; в два часа дня все прибрано, я сижу, как графиня, и штопаю чулки». А в половине десятого все они спят. Улицы полны далеко за полночь; кто их заполняет, не знаю; но люди моего картье спят. Так и дальше пойдет их жизнь: как по часам, или точнее, сама, как часы: прадедовские часы, бессмертной ручной выделки, только без шумного боя и без крикливой кукушки. Сам Кальвин, в наивысшие мгновения того духовного мазохизма, с которым сокрушал он иллюзию свободной воли, все же вряд ли грезил о таком всевластии предопределения. Тут все предопределено: сколько раз в году пойдут на правый берег в театр, и когда именно, и почем за место; какой подарок сделают тетке в день ее серебряной свадьбы, которая будет через два года; и чем кончат. Кончат тем (так они, по крайней мере, надеются), что к средине шестого десятка, выслужив пенсию или продав лавку, переселятся за город, в долину реки Шеврезе, где давно уже на выплату куплена земля и давно уже, по кирпичу в неделю, строится домик, – и там, выращивая свой горошек, помидоры и груши, собирая мед из своих ульев, тихо дождутся великого часа, когда постучится ангел смерти и скажет: половина десятого – пора!
Доколе я сам не стал парижанином, я не так, конечно, рисовал себе жизнь народную в этой столице столиц. Хороша ли такая жизнь народная для самого народа, не берусь судить. Очень сложный вопрос. С одной стороны, как будто мало прогресса. Вижу это и в области, близкой моему ремеслу – в печатном деле. Усовершенствования, которые в Лейпциге найдешь на каждом углу, здесь почитаются монополией двух или трех фирм с мировым именем и ценами. А почему? Они сами объясняют: там у немцев человек работает в своем деле до смертного часа, а потом передает его сыну, который тут же работал со школьной скамьи. А у нас – я купил дело у господина, которому стукнуло пятьдесят; я поработаю тоже до пятидесяти и перепродам третьему, а сам поеду на покой в долину реки Шеврез. Где тут думать об усовершенствованиях? – Они же сами рассказывали мне: в большом городе, славном своим мылом, молодой инженер изобрел новый процесс, удешевляющей производство наполовину – только нужно было бы для этого переменить машины. Мыловары собрались, обсудили, вскладчину щедро заплатили инженеру за патент, а патент сожгли. Должно быть, анекдот. Но человек, который напишет историю анекдотов, впервые напишет истинную историю мира.
А с другой стороны: ведь вот откуда их основная, сильнейшая и никому неведомая черта – спокойствие. Хоть они при беседе размахивают руками, а англичане нет, вы рукам не верьте: прислушайтесь. Англичанин жестикулирует голосом, подчеркивает, растягивает, поет; французская скороговорка монотонна. Французы куда холоднее, куда менее сентиментальны и менее импульсивны: только не сразу это заметишь и поймешь. Мне когда-то казалось, например, что их колониальная система больше раздражает туземца, чем английская; а теперь думаю, что скорее наоборот. Ведь должна же быть причина, почему в Алжире и Тунисе тихо, а Египет, как встал на дыбы с 1919 го года, так и поныне стоит. Это не дух ли моего картье передался на ту сторону Средиземного моря, успокаивая нервы, прививая вкус к тихому заштатному быту без запросов и прихоти?
Герои воздуха; недавно – герои Вердена (а войну они ненавидят, как никогда ни одно племя на свете): откуда все это? Есть, значить, где и резервуар железной выдержки; и я думаю иногда, что находится он именно в нашем картье. Как трава под снегом, таится в тепле под перинами будничной их обывательщины громадная национальная мощь. Не нашел бы Наполеон таких генералов, не хвалилась бы Франция девятнадцатого века такой гирляндой великих поэтов, ученых, политиков, не бывать бы и в восемнадцатом ни энциклопедистам, ни якобинцам, если бы не наше картье.
Надо всем этим, однако, только туристы и задумываются. Проблемы, волнующие моих соседей, совсем иного рода.
Вот, например, сейчас идет у нас на площади ярмарка. Круглый год она кочует по разным кварталам Парижа, а теперь пожаловала к нам. На три угла в длину, по всем улицам, что расходятся с площади, стоят фургоны; а на площади цирк, зверинец, карусели, музыка, толпа, и рой за роем огней. Я честно хожу сюда каждый вечер. Останавливаюсь у лотереи и, поставив франк, выигрываю три кило сахара; утром поднесу консьержке, дабы смотрела сквозь пальцы на то, что мои посетители не всегда обтирают сапоги. Останавливаюсь у барака для стрельбы в цель: плечи распрямляются, грудь дыбится вперед, вспоминаются славные воинские дни – я вхожу и из духового ружья в пяти метрах от мишени, один за другим делаю десять промахов, совсем как тогда из винтовки Ли-Энфильда на двести саженей. Останавливаюсь у палатки с вывеской: «Гадалка»; вхожу; она говорите: «берегитесь рыжей женщины», и я бреду дальше, огорченно вздыхая: ведь это мой самый любимый цвет. Добредаю до ларя букиниста и, перебирая книги, думаю о том, что будь я французский писатель – обходил бы это место за версту: того и гляди, увидишь двенадцать новехоньких экземпляров твоего же последнего романа, с надписью: «Большой успех. Лучшие отзывы критики. 2 фр. 50.»
Впрочем, ярмарка, хоть она и волнует наши сердца, не есть в точном смысле слова проблема. Есть у нас и настоящая проблема, притом затяжная: вот уже год и больше, как она стоит в главном узле общественности не одного только нашего околотка, но и всего левого берега; может быть, и всего Парижа. Имею в виду беспримерную борьбу трех кафе на бульвар Монпарнасс. В начале было их два, и вдвоем они царили над всеми окраинами левого берега. Они друг другу не мешали, хоть и расположены были друг против друга на том же перекрестке. В одном собирались писатели, художники и студенты; а в другом – спортсмены и американцы. Оба торговали бойко, и возницы Томаса Кука, проезжая по Монпарнассу, всегда останавливали туго набитую свою колымагу на том углу, объясняя туристам, что и это есть одна из достопримечательностей Парижа.
Но в том кафе, где американцы, поссорился однажды хозяин с гарсоном, и гарсон решил отомстить. На сбереженные в течение нескольких лет чаевые (легенда? тут называет цифру положительно непроизносимую) он купил или арендовал дом рядом с заведением обидчика и открыл собственное кафе: на том же тротуаре, бок обок. В науке политической экономии это, если не ошибаюсь, называется «зарез». Но даже в науке политической экономии еще не разгадана загадка: почему одно кафе нравится публике, а другое нет; или почему вдруг начинает или перестает нравиться? Как поэты Юний и Юлий где-то у Тургенева: одного признали великим, другого освистали – а стихи были те же самые. Эти научные и литературные справки я привожу к тому, что в новое кафе, действительно, сразу публика валом повалила – только не из американского, что рядом, а из писательского, что визави. Так повалила, что визави просто и буквально опустел. Обидчивый гарсон зарезал не того, кого хотел. По вечерам он, я думаю, взирает на противоположную сторону бульвара с тем чувством, какое испытал бы классический Катон, если бы, мечтая видеть развалины Карфагена, увидел вместо того развалины семивратных Фив; а Карфаген стоял бы рядом целехонек, и от обилия трирем негде было бы пловцу проплыть в знаменитом порту (кстати, если случится быть в Тунисе, поезжайте взглянуть на знаменитый порт: курица перепорхнет!).
Я не преувеличу, если скажу, что треугольная дуэль эта в течение долгих месяцев волновала весь наш берег, от площади Сене Мишель на Сене и до студенческих общежитий у Орлеанской заставы; волновала гораздо больше, чем вопрос о германских платежах. Я, вот, пишу теперь об этой батрахомиомахии с утонченным юмором господина, который выше подобных мелочей, – но ведь и я волновался. До семи часов вечера душа жила иными вопросами – войной в Китае, новым обер-комиссаром Палестины, большевиками, полетом Линдберга, но после ужина – конец, пропало, ничего не поделаешь, я сын своего картье и злоба его мне довлеет. Я надевал котелок и шел на Монпарнасс, и старался понять эту живую иллюстрацию к таинству массовой психологии. Чуть не сырели ресницы, глядя на пустынную террасу писательского кафе, где еще так недавно… И, когда взор пересекая мостовую, падал на давку противоположного тротуара, невольно сжимались кулаки, и бешеная иллюминация нового кафе казалась наглой, а нимфы, намалеванные на четырехугольных его колоннах, пугалами (это, впрочем, правда). И глубоко философские тогда рождались у меня под котелком думы – о том, почему и как, и о том, чего стоит людская ласка и мирская слава, – замечательные думы, только на утро их уже никак нельзя было вспомнить. Но еще замечательно то обстоятельство, что и сам мыслитель, вздохнув, машинально проходил мимо пустой террасы, где столько было уютных диванов к его услугам, и, отважно пересекши мостовую среди толчеи автомобилей, присаживался к чужому столу под навесом победителя. Ничего не поделаешь: так решило картье. В уездном городе надо жить по уездному.
…Но мое захолустье все же лучше всех захолустьев на свет. Во-первых, оно всех краше. Париж так красив, что иногда хочется зажмурить глаза и больше не смотреть: насмотрелся, лучшего все равно не увидишь. Во-вторых: язык! Хорошо жить в стране, где улица говорит на благородном языке. Когда моя консьержка подметает лестницу, и мальчишка от мясника подымается по ступенькам с просаленным свертком в руках, она, посторонясь и откинув руку с метлой, отвечает на его утренний привет с тем же выговором и жестом, с каким Сарра Бернар играла расиновских цариц. Опять и в этом, быть может, новый урок о царственности народов и людей: в сердце величество, в руке помело?
1930Племя незнакомое
«Здравствуй, племя младое, незнакомое! Не я увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь от глаз прохожего». Было это написано о молодой роще где то в Псковской губернии, но цитируется всегда в применении к подрастающей молодежи. Главных слов тут два: «здравствуй» и «незнакомое». Второе из них мы, люди на закате, произносим уверенно: племя, действительно, совсем незнакомое. Но в слово «здравствуй» не так легко вложить полную уверенность. «Здравствуй» значите: одобряем, желаем победы. Одобряем ли? желаем ли победы? Отцам вечно кажется, что дети уклоняются в ересь; вечно до сих пор это оказывалось ошибкой, и все же…
Оставим лучше оценку в стороне, а займемся просто наблюдением. Что за лицо у нынешней молодежи? в чем содержание духовного ее существа? Исключительно важный вопрос, но при ответе на него никак нельзя избежать упрека в поверхностности. Научное обследование тут вряд ли мыслимо, и на документы не сошлешься. И где взять «документы»? О молодежи так мало пишут; даже романов, как это ни странно, о ней не пишут. Конечно, в каждом романе есть юноша и девица, но не о том идет у нас речь. Я вот сижу и стараюсь вспомнить, за последние годы, книгу о душе современного отрочества, о том, что творится у них в уме и в сердце, об их внутреннем отношении к вопросам, которые мы когда-то называли проклятыми и мучительными: почти нечего вспомнить. Вина, может быть, моя, не досмотрел; но за мою память вышли после войны, в области большой литературы, только две такие книги. Одну написал Уэльс, под заглавием «Джоан и Питер»; но оба ее героя успели принять участие в войне, и теперь им за тридцать, а нас тут занимают те, кому нынче двадцать или меньше. Им посвящен роман французского поэта Андре Жида: поэт он крупный, но роман, по моему, нехорош, неприятный и какой то бесполезный; называется он «Фальшивомонетчики». Других документов я не знаю, а потому обойдусь собственными впечатлениями.
Поле этих впечатлений довольно широко, мне довелось за последние годы много скитаться; но есть две группы молодежи, которых я касаться не буду. Советской России я не видал, поэтому о тамошнем юношестве ничего из первых рук не знаю: а о подрастающем поколении моего собственного племени, в Палестине и повсюду, не берусь судить по причине обратной – я к нему стою чересчур близко, из-за деревьев, пожалуй, леса не видно. Речь у нас будет о молодежи европейской и американской. Я к ней давно присматриваюсь, и, как уже сказано, имел случаи наблюдать ее во многих странах, от Канады до Италии и до Южной Африки; где издалека, где и в упор; во всяком случае, сложились у меня выводы четкие и выпуклые. Правильные ли выводы – не мне решать.
Прежде всего, мне кажется, важно запомнить одно обстоятельство: почти все, или просто все проблемы этического порядка, что нас когда то мучили во дни нашей юности, успели уже давно из проблем превратиться в аксиомы. Самый яркий пример, конечно, «женский вопрос». Нас во время оно волновала даже такая проблема: нравственно ли это, если барышня придет к одинокому студенту просто посидеть, безгрешно посидеть? Сегодня вряд ли найдется кружок молодежи на свете, где бы даже вопрос о многоженстве или многомужестве удостоился обсуждения под углом этической оценки. Свободная любовь, измена, внебрачное материнство, гомосексуализм и прочее – все это может быть удобно или неудобно, опрятно или неопрятно, «по товарищески» или нет, но мораль здесь больше не при чем, и спорить не о чем.
Отпал этический подход и к вопросам общественным. Я помню, в моем городе когда-то застрелился студент, не выдержав разыгравшейся в душе его борьбы между какими-то двумя мировоззрениями – а какими, не помню. Думаю, теперь это было бы невозможно; во всяком случае, теперь такой самоубийца был бы нелепым исключением, а тогда его «многие понимали». Враждующие лагери остались, и вражда у них свирепая, но узлы, в которых она поляризируется, вряд ли бы назвал я «мировоззрениями» в старинном смысле: это просто программы или платформы; и раздел между ними – арена, тогда как между Мировоззрениями в наше время раздел назывался – пропасть. Проблемы стали аксиомами; кому это любо, тот выбирает себе аксиому по вкусу и воюет против других аксиом, но нисколько при том не отрицает, что и то – аксиомы. То, что отличало юношескую мысль в начале века, мучительные родовые схватки ницшеанства, футуризма, русского марксизма, «надрыв», подвижничество искания – все это стерлось.
Отсюда, вероятно, возникла та черта, что резче всех других, быть может, отмечает несходство между молодежью новой и прежней: у новой молодежи нет культа собственного мнения. У нас этот культ был первой заповедью всякой общественной религии. Нам казалось, что «свое мнение» – святыня; что величайшая польза, какую ты, он или я может принести человечеству, заключается именно в выявлении и утверждении «своего» взгляда; если я этого взгляда не выражу и не буду отстаивать, я виновен в предательстве мирового интереса. Оттого мы так обидчиво и ревниво отрицали авторитеты. Я бы не сказал, что мы в то время поголовно отвергали величие великих умов. Были и у нас боги философские, политические, литературные; но нам чудилось, что служение этим богам должно носить форму постоянной проверки, и проверки именно аршином нашего собственного мнения. Не высказать собственного мнения значило, в наших глазах, утаить от человечества одну из тех химических капель, взаимная реакция которых и дает в итоге «истину». Искать истину: это считали мы долгом и назначением каждого, будь он велик или мал, рядовик или гений; если я, последний из последних, не выйду на поиски, от того уменьшится сумма наличной истины в обиход.
Все это исчезло. Новая молодежь ищет авторитетов; не только доверяет им, но и любит доверять. Ей нравится именно то, что мы ненавидели – стоять на вытяжку, руки по швам, и принимать ясные, короткие, бесспорные приказы. У кого есть этот фельдфебельский талант – отдавать ясные приказы – тому она охотно дарит титул «вождя»: слово, которого не было и быть не могло в нашем словаре тридцать лет тому назад.
Эта черта породила другую, с которой нам, людям на закате, особенно трудно примириться: новая молодежь глубоко равнодушна к политической свободе. Она не станет на стены лезть не только в защиту парламентского контроля над властью, но и во имя свободы печати, трибуны и союза. Все модные диктаторы последних лет опирались на молодежь; самый последовательный из них тот, который из орудий порки, пытки и казни сделал герб и из слова «свобода» ругательство, держится на своей вышке только благодаря поголовному обожанию молодежи.
Объяснений можно предложить несколько. Вот одно: может быть, поколение передает поколению свою усталость. Я мало верю в то, что поколение способно воспринять от предшествовавшего поколения ценности положительные, например, ту ценность, которая называется «горький опыт»; но усталость передать, пожалуй, можно. Мы в свое время думали много и усердно; ничего не надумали, кроме всемирной бойни; из этой бойни мы вышли с великой неохотой (явной или подсознательной, все равно) дальше ломать голову над решениями, которые жизнь опять, может быть, оплюет кровавой слюною; и это отвращение к гимнастике мысли, вероятно, передалось нашим детям. Но возможно и другое объяснение: что дети наши тоже думают, и именно путем обдумывания дошли до того безразличия к бывшим проблемам, о котором я только что говорил. Раз между взглядами Ивана и взглядами Петра никакой, в сущности, нет бездны, то уже, право, не так важно, будет ли представлено твое или мое собственное мнение. Собственное мнение давно уже не святыня и личное участие каждого в поисках истины ничуть не обязательно. Если нашелся подходящий фельдфебель, который знает, чего хочет, и умеет выкрикивать слова команды – и притом еще любит это занятие – то дайте ему править и не мешайте. Чего тут бояться? Почему мы непременно должны заранее решить, что министр – поелику он министр – обязательно вор или насильник? Почему не предположить, что министр, вероятно, есть обыкновенный приличный господин, как вы да я, и с такими же точно добрыми намерениями? Все дело в «презумпции». Презумпция новой молодежи по отношению к носителю власти – доверие. Покуда не будет доказано, что он плох, нет никаких оснований сомневаться в том, что он окажется хорош; и потому нет никаких оснований душить его ежедневным полицейским надзором под маской парламентаризма, или травить его в газетах. Наша презумпция была обратная: носитель власти, хоть – будь он ангел по природе, неизбежно тяготеет к превращению в тирана – именно потому, что он носитель власти; а оттого надо глядеть за ним в оба и каждое утро тащить в палату на перекрестный допрос при участии пятисот прокуроров.