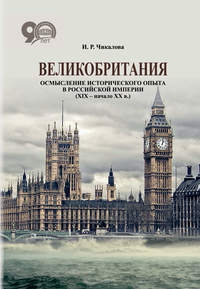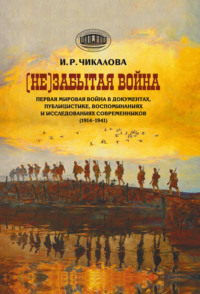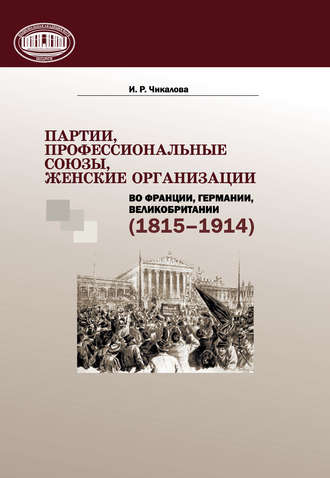
Полная версия
Партии, профессиональные союзы, женские организации Франции, Германии, Великобритании (1815–1914)
В русле магистрального курса советской исторической науки на протяжении многих десятилетий велись широкомасштабные углубленные исследования Парижской Коммуны. Собственно, истоки ее изучения российской историографией уходят еще в дореволюционное время. Участник тайного общества «Земля и воля» П. Л. Лавров, будучи в эмиграции, в 1879 г. издал книгу «Парижская Коммуна 18 марта 1871 года», в советское время ее четырежды переиздавали [519–520]. Один из авторитетнейших исследователей Коммуны Н. М. Лукин заметил, что эта книга дает «поразительно верное разрешение многих тактических проблем пролетарской революции». В. А. Быстрянский, также еще до революции 1917 г. занимался Коммуной, в 1918 и 1921 гг. выпустил книги о ней [119]. Он, придерживаясь марксистской концепции, полагал, что парижский пролетариат создал первое в мире пролетарское государство, а поражение Коммуны связывал исключительно с германской интервенцией. Тогда же, в 1921 г., вышло первое издание книги И. И. Скворцова-Степанова «Парижская Коммуна 1871 года и вопросы тактики пролетарской революции» [878–879]. Эту работу высоко оценили, неоднократно переиздавали (последнее 7-е издание вышло в 1938 г.) и, тем не менее, критиковали, ставя Скворцову-Степанову в вину утверждение о том, что революция 18 марта началась при идейной гегемонии мелкобуржуазной интеллигенции, а основную массу революционеров составил не промышленный, а ремесленный пролетариат.
Не меньшую роль в определении основных направлений и проблем изучения истории Коммуны сыграла вышедшая в 1922 г. монография Н. М. Лукина «Парижская Коммуна 1871 г.» [553]. В 1924 и 1926 гг. ее переиздали полностью, а в 4-м издании 1932 г. опубликовали первую часть, раскрывающую события Второй империи и деятельность Правительства национальной обороны [554–556]. Несмотря на все, с точки зрения марксистско-ленинской идеологии, достоинства этого труда («это была первая пролетарская социалистическая революция, первая попытка пролетариата дать буржуазии генеральное сражение»), официальное руководство исторической наукой признало книгу Лукина не вполне отвечающей марксистско-ленинской концепции. Сам Лукин вынужден был покаяться в своих «ошибках»: «наиболее важными из них являются, во-первых, характеристика Коммуны как “диктатуры пролетарского города над сельским населением”, во-вторых <…> утверждение, что “Коммуна (ее Совет) не представляла собой государства советского типа”» [556, с. 7–8].
В 1930-е гг. продолжалось активное изучение предистории и истории Парижской Коммуны. О ней писали, освещая ее историю комплексно (А. И. Молок [641], О. Л. Вайнштейн [121], П. М. Керженцев [431–432]) или прослеживая отдельные направления деятельности: А. И. Молок (военная организация, белый террор, народное просвещение, быт и культура, отношение к крестьянству) [642–645], С. Н. Красильников (боевые действия) [500], Ю. И. Данилин (театральная жизнь) [228], А. С. Гущин (Коммуна и художники) [222], Я. М. Михайлов (Захер) (Коммуна и церковь) [637]. К теме участия женщин в деятельности Коммуны обратились Е. Г. Денисова [235], О. В. Неустроева [668], С. Б. Кан [414].
С окончанием Великой Отечественной войны исследование истории Коммуны было продолжено. Вышли труды к юбилейным датам: 90-летию («Парижская Коммуна 1871 года» в 2-х томах) [740], 100-летию («История Парижской Коммуны 1871 года») [404], 110-летию («Парижская Коммуна 1871 года: Время – события – люди») [741]. Ряд книг посвящен отдельным направлениям ее деятельности: юстиции [48], биографиям видных деятелей [650; 885], женщинам – участницам Коммуны [440]. Проведен анализ периодической печати Коммуны [579]. Сделана попытка выявить интернациональное наследие Коммуны [388] и отклики на нее в отдельных странах [268]. Исследована деятельность Коммуны с точки зрения обогащения ее опытом теории марксизма [739]. Во всех этих изданиях авторы следуют оценкам Маркса, Энгельса, Ленина и трактуют события исходя из теоретических постулатов о сломе буржуазной государственной машины и установления диктатуры пролетариата. Парижская Коммуна представлена важной вехой в развитии пролетарского интернационализма и солидарности, воплощением марксистского учения об исторической миссии пролетариата – сломать буржуазную государственную машину и овладеть политической властью. В этом плане общий вывод сводится к утверждению, что Коммуна представляла собой первый опыт диктатуры пролетариата. Современная историография ушла от подобных оценок. Например, А. В. Ревякин полагает, что «Парижская Коммуна была кратковременным событием локального значения» [366], а в «Истории Европы» он ограничился констатацией: программа Коммуны «была общим достоянием французских демократов середины XIX в.» [399, с. 392]. Этот же вывод он повторил в «Истории Франции» [42, с. 274]. Белорусский университетский учебник Новой истории также оценивает Коммуну не как диктатуру пролетариата, а как форму организации власти, выражающей интересы всего населения Парижа [1028, с. 209].
Германистика. По германской тематике было создано немного трудов, лишь Н. М. Лукин опубликовал «Очерки по новейшей истории Германии», хронологически охватывающие конец XIX – начало XX веков [559]. Написанная в форме очерков, книга ставила целью представить социально-экономическую и политическую историю Германии с особым акцентом на рабочем движении и критике взглядов Ф. Меринга, по мнению Лукина, недооценивавшего опасность ревизионизма.
Первые послевоенные, как и предвоенные, годы оказались чрезвычайно скупыми на исследования по германистике, видимо, сказывалась трагическая память войны. Только Ф. А. Ротштейн в контексте объединения Германии осветил Австро-прусскую (1866 г.) и Франко-прусскую (1870–1871 гг.) войны. По словам автора, история этих войн «есть, по существу, история территориального и политического возвышения Пруссии и захвата ею власти над всей Германией» [843, с. 3]. Тогда же, в 1945 г., вышла книга А. М. Петрушова об аграрном строе Германии с 1882 по 1939 г. [761]. Затем наступил длительный перерыв. Лишь в 1959 г. были изданы очерки по истории Германии начала XX в. К. Д. Петряева [763] и научно-популярный труд по истории Германии с древнейших времен до 1918 г., ориентрованный на школьных учителей истории [731]. Еще спустя два года появилась книга А. Д. Эпштейна «История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г.» [1062]. После выхода этих трудов понадобилось почти десятилетие для подготовки и публикации коллективом авторов двухтомного обобщающего труда «Германская история в новое и новейшее время» [189].
Чрезвычайно скромными, ограниченными лишь несколькими крупными трудами, оказались масштабы монографической разработки вопросов внутриполитического развития Германии. И. С. Галкин выявил предпосылки, процесс создания, социально-экономические и политические итоги образования Германской империи [174–175]. В. П. Прокопьев показал место и роль армии в истории Германии и выявил тенденции развития германской государственности [803–804]. А. Б. Цфасман исследовал политику буржуазных партий в связи с рабочим движением в начале XX века [1016–1017]. С. В. Оболенская противопоставила отношение к Франко-прусской войне правящих верхов Пруссии и оппозиционных кругов южногерманских государств [696]. Последняя из названных работ была опубликована в 1977 г. Затем вновь наступил длительный перерыв: только в 1986 г. вышел коллективный труд о производительных силах и монополистическом капитале в России и Германии в конце XIX – начале XX века [801]. За ним последовали другие: в 1988 г. коллектив авторов опубликовал труд о крупных аграриях и промышленной буржуазии России и Германии в конце XIX – начале XX в. [505], И. И. Костюшко – о прусской аграрной реформе [496].
«Биографическая германистика» ограничилась лишь личностью канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Одним из первых был А. С. Ерусалимский. Тему своего исследования он обозначил в названии книги: «Бисмарк: дипломатия и милитаризм» [276]. В предисловии к ней М. Я. Гефтер отметил, что для Ерусалимского одной из центральных была проблема «возрастания роли милитаризма во всей политике Германии, раскрытия механизма агрессивного самодвижения этой политики». С другой стороны, «чем больше вовлекались в колониальные авантюры придворные и аристократические сферы, разные группы юнкерства, тем легче было канцлеру осуществлять свою внутриимперскую политику, а главные выгоды ее неизменно доставались прусской военной верхушке» [276, с. 10]. В. В. Чубинский издал политическую биографию Бисмарка. Взяться за ее написание побудило автора то соображение, что «основанный на марксистско-ленинской методологии научный анализ исторической роли Бисмарка – составная часть борьбы против всякого рода “вечно вчерашних” империалистических идеологов» [1034].
Значительное место в историографии социалистического и рабочего движения заняли труды о германской социал-демократии, рабочем и социалистическом движении второй половины XIX – начала XX в. Сложилась активная группа германистов, специализировавшихся по этой проблеме. Опубликовали свои работы В. А. Козюченко [447], З. К. Эггерт [1056], Б. А. Айзин [8–9], Ф. Ф. Головачев [198], А. М. Миркинд [628], Н. Е. Овчаренко [700–702]. Лейтмотивом этих работ является осуждение «теоретической слабости» левого, марксистского течения германского рабочего движения, равно как и «разоблачение предательской роли бернштейнианского ревизионизма и каутскианского центризма». Например, Овчаренко решительно неприемлет концепцию Бернштейна, которую представляет в виде «новейшей проимпериалистической разновидности реакционного либерального социализма», столь же критичен он и по отношению к Каутскому: «марксизм Каутского был скорее потребностью для умственных занятий, чем духовным оружием для революционного преобразования мира пролетариатом» [702, с. 238, 259].
Англоведение. Традиции дореволюционного англоведения продолжали активно развиваться в начальный период советской историографии. В эти годы издаются крупные труды ученых, сложившихся еще в дореволюционный период. С установлением Советской власти эти историки либо переиздали свои прежние работы, либо выпустили новые. В 1918 г. третьим изданием вышла работа А. Ф. Быковой «История Англии с XI века до начала мировой войны» [118]. Были изданы работы П. М. Керженцева о современной на то время Англии [427–428] и Ирландии [429–430]. Вышли труды В. Н. Дурденевского об иностранном конституционном праве [262] и Г. С. Гурвича о политическом строе Англии [219]. Все эти книги развивали сюжеты, в той или иной степени затронутые в дореволюционной историографии, можно сказать, их авторы имели тематических предшественников. Великобритания в них представлена как страна «классического конституционализма». Впервые на русском языке вышел известный во всем мире труд М. Я. Острогорского «Демократия и политические партии». Первый том этого двухтомника посвящен Англии [723]. В нем Острогорский дал характеристику политических партий в условиях демократии и политического равенства, исследовал становление и развитие организационных структур и формирование идеологии английских либералов и консерваторов, показал процесс превращения партий в консолидированные организации, не имеющие никакой другой цели кроме собственного роста. В связи с этим он уделил большое внимание анализу кокуса – административного ядра партий. Кокус, возникнув как специализированный орган, обеспечивающий связь парламентских партий с массами избирателей, со временем становится институтом, занимающимся пропагандой партийной идеологии и координацией партийной работы в парламенте и в массах. Острогорский считал, что политические партии вместо выполнения своей ключевой функции посредника между гражданским обществом и государством стали орудием реализации во властных структурах групповых интересов партийных элит. Поэтому для нормального развития демократического строя необходима замена партий свободными лигами, образующимися ради достижения определенных целей.
Трудившиеся в Советской стране «буржуазные историки Запада», сложившиеся как ученые в дореволюционное время, вызывали недоверие. Когда выпустили книгу известного исследователя англо-саксонского мира П. Г. Мижуева о народном образовании, в том числе британском [615], в предисловии Г. Бергман предостерег читателей: «изучая опыт других государств, мы обязаны относиться к нему критически. Чужие образцы мы не можем перенимать целиком и безоговорочно <…> В этом отношении книжка профессора Мижуева страдает значительными недостатками. Автор, очевидно, не владеет оружием марксизма – отсюда его ошибки, отсюда неспособность разобраться в действительных “пружинах” общественного развития» [73, с. 3–4].
В скором будущем творческие достижения «буржуазных историков Запада» будут окончательно низвергнуты, а сами они подвергнуты осуждению – об этом уже говорилось выше.
В 1920-е гг. появился ряд работ, ставивших новые проблемы, прежде всего, социально-экономического характера. Началось изучение промышленной революции и ранней истории классовой борьбы пролетариата. Ф. А. Ротштейн в «Очерках по истории рабочего движения в Англии» осветил чартистское движение как классовое и политическое, выражавшее интересы не только пролетариата, но и подавляющей части народа. Чартистское движение, по Ротштейну, оказало влияние и на складывание взглядов Маркса и Энгельса. Еще одна ключевая тема этого труда – первые годы становления Лейбористской партии и формирование ее идеологии, в оценке книги, «оппортунистической» по политической направленности, что напрямую связывалось с относительным улучшением материального положения рабочего класса Англии во второй половине XIX в. Ротштейн делал вывод об обреченности политики соглашательства лейбористов с либералами ввиду «неизбежной победы мировой революции» [840–841]. В целом благожелательно оценивая труд Ротштейна, историческая критика того времени находила в нем и недостатки, в частности, полагали, что Ротштейн не выявил должным образом историческое значение чартизма, причины оппортунизма в рабочем движении, завысил данные о жизненном уровне английских рабочих. Несмотря на критику, книга Ф. А. Ротштейна легла в основу советской историографии чартизма. В ней чартизм определялся в качестве начального этапа «классового политического движения современного пролетариата», представлялся как попытка создания его политической партии, а его поражение связывалось с завершением промышленного переворота и превращением Англии в «мастерскую мира», что позволило правящим классам подкупить рабочую верхушку. Такой подход к рассмотрению чартизма стал господствующим в трудах советских историков и в последующем.
Внедрение идеологического постулата о решающей роли рабочего класса в мировом революционном процессе обусловило повышенное внимание к рабочему и социалистическому движению. Применительно к Великобритании для этого случился и удачно соотнесшийся с веяниями эпохи повод. В 1923 г. первое лейбористское правительство возглавил Рамзей Макдональд, с 1886 г. член Фабианского общества, с 1894 г. член Независимой рабочей партии и с 1900 г. секретарь Комитета рабочего представительства, как первоначально называлась Лейбористская партия. Это событие вызвало появление в СССР ряда работ, в которых исследовалась политическая карьера лейбористского лидера. Одним из первых был С. Д. Мстиславский с книгой «Рабочая партия от О’Брайена к Макдональду» [658]. В упоминавшихся выше «Очерках по истории рабочего движения в Англии» Ф. А. Ротштейн также останавливался на деятельности Макдональда в качестве секретаря Комитета рабочего представительства. В 1929 г. В. Я. Яроцкий (псевдоним А. Чекин) издал первую в СССР политическую биографию Макдональда. По мнению автора, в первоначальный период политической карьеры Макдональд «не поднимается над уровнем среднего фабианца», хотя и выделяется среди других рабочих лидеров некоторыми качествами, которые позволили ему в будущем стать вождем английских рабочих. Большое внимание в книге Яроцкого уделено истокам политических взглядов Макдональда, для более выпуклой иллюстрации их приведены значительные по объему выдержки из произведений лейбористского лидера. Макдональд, в оценке Яроцкого, предстает в виде «мессии мирового реформизма», в связи с чем большая часть книги посвящена критике его реформистских позиций [1019].
В 1920-е г г. увидели свет работы, ставившие новые проблемы, прежде всего, социально-экономического характера. В. Н. Перцев в труде «Экономическое развитие Англии в XIX в.» обратил внимание на то, что «настоящая эра капитализма началась лишь с тех пор, как капиталы, нажитые на торговле, связались с промышленностью, сначала мелкой, затем и крупной». Эту мысль он подчеркнул еще раз: «Возникновение домашней формы крупной промышленности и было началом капиталистических отношений». Затем последовали мануфактурная и машинная промышленность, которые также основаны на эксплуатации, главным образом, производителя [757, с. 83, 85]. Началось изучение промышленной революции и ранней истории классовой борьбы пролетариата. А. А. Васютинский в книге «Разрушители машин в Англии» сделал попытку анализа луддитского движения в Англии, пик которого пришелся на 1811–1817 годы [122]. Симпатии к сторонникам «физической силы», готовым перейти к насильственным методам борьбы, отчетливо проявляются в его работе. Эти «симпатии» прочно обоснуются в работах советских историков последующего периода, тема же истории рабочего движения на долгие годы станет доминирующей в англоведении.
В 1930–1940-е годы в связи с общим положением в советской исторической науке исследования по истории Великобритании резко сократились. Редким исключением стал вышедший двумя изданиями труд Г. И. Быкова по истории чартизма [116–117] и исследования В. М. Лавровского, посвятившего свои изыскания капиталистическому преобразованию аграрного строя Англии вследствие ликвидации системы общинных полей (огораживаний), исчезновения крестьянства и развития крупного капиталистического фермерского хозяйства [522–523]. К ним можно лишь добавить вышедший в 1943 г. обширный, объемом в 464 страницы, энциклопедический справочник «Британская империя» [108]. Раздел «История» в нем написал известный советский историк А. А. Губер, после Великой Отечественной войны ставший академиком, председателем Национального комитета историков Советского Союза и президентом Международного комитетета исторических наук.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Нотабль (фр. notable) – букв.: избранный, достойный избрания; заметный, значительный, известный; знаменитый житель, почетный гражданин. В то же время нотаблями собирательно именуют лиц, избранных в местные органы власти – мэров, муниципальных и генеральных советников, а иногда и всех избранных лиц: депутатов Национального собрания, Сената, членов выборных консультативных органов государства.
2
В силу огромного числа изданий работ названных общественных деятелей, опубликованных на русском языке еще до революции, ради экономии места нам пришлось ограничиться лишь упоминанием этого факта.
3
Подробно о дореволюционной российской историографии Великобритании см.: Чикалова И. Р. Англоведение в императорской России в именах и публикациях (1801–1917). – СПб.: Алетейя, 2013. – 392 с.; Чикалова И. Р. Опыт интеллектуального трансфера: иностранная книга об Англии в России (1861–1917) // Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в Новое время / под ред. Л. П. Репиной. – М.: Аквилон, 2014. – С. 469–530.