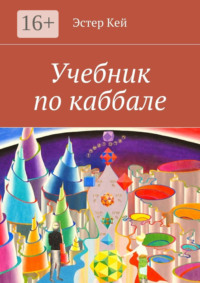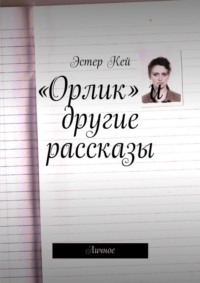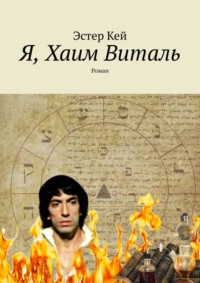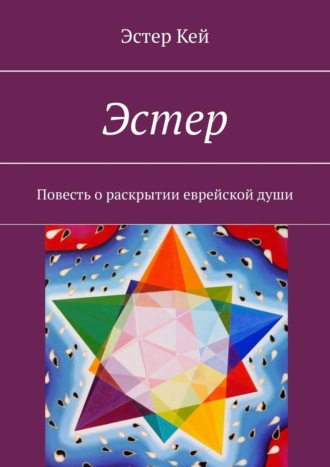
Полная версия
Эстер. Повесть о раскрытии еврейской души
Вот нормальные туристы, ходят на экскурсии, получают стандартную информацию обо всем… Одна я лезу внутрь, в лабиринты, все доискиваюсь какой-то особой правды… …11 января. Когда встречаю Ляха в университете, то избегаю разговоров с ним, не имея мужества прямо отказаться от участия в его мафии. А что будешь делать? Это ведь было так по-киношному заманчиво – сидели, обсуждали детали авантюры, оговаривали плату, условия контракта… Тогда, десять дней назад, я уже почти обещала сотрудничать с ним. Если сейчас откажусь, то вдруг он начнет мстить? Боюсь попадаться ему на глаза… …13 января. Занесло меня в гостиницу Россия. Антрепренер Аллы Пугачевой (так, во всяком случае, значилось на его визитке) зазвал в гостиничный номер, якобы для прослушивания и определения вокальных способностей (это была моя идея – попробовать петь если уж не на клиросе, так на эстраде). Мужик оказался конкретный, закрыл дверь на ключ и… что сказать? – дралась, кусалась, – вырвалась. Злой и разочарованный антрепренер в конце концов открыл дверь и выпустил меня из комнаты, обозвав вдогонку холодной рыбой.
– Не все то рыба, что из рук ускользает, – находчиво ответила я, хотя была страшно перепугана этой историей… Сердце колотилось от ужаса. Мое спасение было абсолютно невероятным. Я даже и не надеялась, что этот маньяк меня выпустит… Теперь, когда с моими вокальными способностями все было ясно, мне почему-то расхотелось искать дальнейших приключений. Я смирилась с контролем тети Милы, поняла, что лучше ее просто слушаться и не беситься… Стала давать внучке тети Милы ежедневные уроки по музыке, чтобы хоть отчасти проявить благодарность за ее гостеприимство и житейскую мудрость.
Итак, она оказалась права. Она помогла мне понять, какая жизнь не для меня. Ну, а что же способно заполнить мою жизнь действительно достойным содержанием? Неужели только учеба? Но что стоит и учеба, если результат ее – цинизм и душевный вакуум?
В синагоге города Ростова мне в свое время открыли, какой год является настоящим годом от сотворения мира. Может быть, там же мне могли бы помочь осознать и другую, не менее важную, вещь: для чего они, все эти годы? И что такое настоящая жизнь?
С этой мыслью я отправилась на поиски московской синагоги.
Конец цитаты из дневниковых записей11. Марьина Роща
Небольшой деревянный дом, окрашенный в голубое, стоял на задворках массивного, жутковатого здания КГБ. Я отыскала этот синагогальный дворик с забором и калиткой в пятницу вечером, потратив на поиски и расспросы добрую пару часов.
Поверх фасадного окна виднелась резная деревянная звезда под крышей, звезда Давида, памятная мне еще по ростовской синагоге. А на калитке при входе во двор что-то завернутое в целлофан висело по правую руку от входящего. Снег покрывал зубчики голубого забора и весь двор, а также покатую крышу синагоги.
Странное чувство, чувство возвращения в родной дом, заставило меня остановиться и снова и снова обводить этот заснеженный дворик ошарашенным, узнающим и расплывшимся от слез взглядом.
О Г-споди, как совершенныДела Твои, думал больной.Постели, и люди, и стены,Ночь смерти и город ночной.Как сладко при свете неярком,Чуть падающем на кровать,Себя и свой жребий подаркомБесценным Твоим сознавать.Я принял снотворного дозуИ плачу, платок теребя.О Б-же! Волнения слезыМешают мне видеть тебя.…Прочтя наизусть пастернаковские строчки несколько раз и полностью прочувствовав все описанные в них симптомы тоски по Всевышнему, я двинулась ко входу в синагогу. Дверь легко и скрипуче отворилась, за нею были сени, затем еще дверь – и коридор. Из нижнего зала в коридор доносились звуки то ли учения, то ли молитвы.
Пребывая в трансе узнавания, я вбирала в себя это древнее святое бормотание, одновременно чутко улавливая запахи – старых книг, слежавшейся одежды, отсырелых досок и какой-то особенной еды с луком.
По лестнице, темной и узенькой, быстро спустился в коридор некий бородатый человек, который поспешно обратился ко мне:
– Слушайте, зажгите нам свечи! Вы еврейка? Шабос, шабос скоро! Поднимитесь в женское отделение!
То, что я проигнорировала его вопрос, еврейка ли я, почему-то послужило для него доводом, что это, несомненно, так, и он привел меня в женское отделение на втором этаже и указал:
– Вот здесь женщины молятся. А свечи зажгите нам в столовой.
Мы проследовали в столовую – также на втором этаже – и он поспешно подал мне коробок со спичками.
– Зажигайте!
Я как во сне поднесла зажженную спичку к двум свечам.
– Закройте глаза ладонями. Скажите: Борух Ато… Слово в слово за ним я произнесла требуемое благословение на древнееврейском.
– Гут шабос, – сказал человек и вышел.
– Гут шабос, – отозвалась я знакомым мне по книгам Шолом-Алейхема выражением, все еще вглядываясь в маленькие, нежные язычки пламени.
– Гут шабос, гут шабос, – медитировала я с нарастающим счастьем.
В столовой стоял запах селедки, винегрета, свежеиспеченного хлеба и, пожалуй, водки.
– Гут шабос, – пропела я кастрюлям и бутылкам.
В женском отделении, куда я вышла из столовой, никого не было. Стояли простые деревянные стулья и скамьи, перегородка, за которой виднелись книжные шкафы и учебная доска – наверное, тут и преподавали иврит для отъезжающих.
Женское отделение было, собственно, обрамлявшим нижний зал балконом, галереей. Я приникла к перилам и увидела нижний молитвенный зал. Там были люди, обращенные лицами все в одном направлении – туда, где стоял некий покрытый тканью с вышивкой шестиугольной звезды шкаф, по обеим сторонам которого горели свечи.
Среди молившихся были и молодые, и старые, и неказисто одетые, в шапках-ушанках, и элегантные, в черных шляпах и во фраках пушкинской эпохи, однако почти все бородатые.
Молились с книгами в руках, то сидя, то вставая, иногда повышая голоса и вторя ведущему, а то вдруг замирая в абсолютной, трепетной тишине уединения. В конце недолгой молитвы несколько молодых парней принялись танцевать, ухватясь друг другу за плечи, с громким и дружным пением. Евреи, евреи, – взволнованно говорила я про себя.
– Гут шабос, – произнес женский голос за моей спиной.
Я обернулась.
Судьбоносная, как сказал бы Горбачев, минута в моей жизни наступила.
12. Сара
Сара была, в отличие от меня, типичной еврейской красавицей с черными умными глазами, бледной, чуть ли не белой кожей и блестящими черными волосами. А одета она была как принцесса – в черное приталенное платье с белым кружевным воротничком, что заставило меня устыдиться за свои потертые джинсы.
– Тебя с рождения звали Сарой? – недоверчиво спросила я после того, как она представилась.
Как это возможно, чтобы советскую девушку звали Сара? Она ласково улыбнулась и жестом пригласила меня в столовую.
– Идем, сейчас кидуш будет. За едой познакомимся получше, и я тебе расскажу, если хочешь, как получилось, что я Сара.
Мы зашли в столовую, где уже собрались все мужчины, и, скромно стоя поодаль от них, ответили что-то вроде Аминь на произнесенное раввином благословение на бокал вина. Вслед за Сарой я отпила вино из поданного нам тускло-серебряного кубка, а затем она набросила на мое плечо полотенце и объяснила, каким образом нужно мыть руки на хлеб.
Вот чудеса-то! Даже мыть руки – это, оказывается, еврейское дело… – подумала я. – И вино пьют здесь тоже как-то особенно, по-еврейски. Я повторила за Сарой благословение на мытье рук – и впрямь, мои собственные руки ощутили некую святость, появившуюся в них вместе с чистотой.
Сюрреализм какой-то, – решила я.
Мужчины заняли длинный стол, а мы с Сарой примостились в смежной со столовой кухне, где уютно теплились укутанные полотенцем кастрюли с едой на плите, накрытой какой-то железной пластиной.
– А почему огонь накрыт? – заинтересовалась я. Сара деликатно поднесла палец к губам и передала мне кусок хлеба.
– Скажи: Борух Ато… Я сообразила, что опять требовалось произнести благословение. Я была послушна, так как осознавала, что это не просто застывший ритуал, а что-то очень живое и насущное.
Сказав благословение, я увлеклась вкусным хлебом и забыла о вопросе, который хотела задать.
Мы положили себе в тарелки винегрет, селедку, салат из тертых яиц и принялись за еду.
Мужчин мы могли слышать, но не видеть. Через приоткрытую дверь доносились их разговоры на русском, идише и английском языках, перемежаемые смехом и стройным пением. Отблеск субботних свечей из столовой на кухню не доходил, но духовно наполнял и ее, придавая всему какую-то возвышенность.
– …Меня вообще-то Катей звали, – возобновила разговор Сара, – еврейское имя я сама взяла.
Что значит взяла? Имя дается родителями! – мысленно воскликнула я, но решила не перебивать Сару.
– Мой отец, видишь ли, еврей, а мама русская. Я всегда к Б-гу тянулась, но о синагоге ничего не знала.
Я понимающе кивнула – что и говорить, ситуация весьма знакомая, похожая на мою.
– …Поступила я в университет, – продолжала Сара, – на исторический факультет… – А я на журналистике учусь, – вставила я реплику, не утерпев.
– Да? А где ты живешь? В общаге?
– Нет, у тети в Люберцах. А ты – в общаге?
– Нет, не дай Б-г в таком месте жить… Я, к счастью, москвичка.
– Ясно. Ну, давай, рассказывай дальше, извини, что перебила.
– Так вот, два года назад я поступила в университет, и в один прекрасный день подходит ко мне парень и говорит: Катя, почему ты не ходишь в синагогу, ты ведь явная еврейка. Приходи на субботу! Мне стало интересно, а этот парень – он, кстати, тоже здесь присутствует, – привел меня на ближайший шабос сюда, в Марьинку. Сразу представили меня реб Довиду – я тебе покажу его – и расспросили о семье. Тут же выяснилось, что по еврейскому закону, по Торе, никакая я не еврейка.
– Почему? – воскликнула я, представив себе разочарование Сары.
– Потому что определяют по матери, а не по отцу.
– Правда? Ну, и что же ты могла поделать?
– Я не только могла, я и сделала, – сказала Сара, просияв всем своим чудным ликом, – я прошла гиюр.
– И тогда тебя назвали Сарой?
– Ну да.
– А гиюр – это что, посвящение в еврейство?
– Да, вроде того.
– Здорово, – вздохнула я, – значит, еврейское имя получаешь только если проходишь гиюр. А если мне, например, его не надо, то я и имя получить не могу? Жаль. Мне так хочется быть Эстер!
– Ты хочешь взять имя Эстер? – переспросила Сара.
– Очень! У меня так и звучит в ушах: Эстер бас Голда.
– Кто это – Голда?
– Моя мама. То есть она Галина Семеновна, но Циклоп сказал, что она Голда.
– Кто сказал? – совсем запуталась Сара.
– Ну, учитель один. Он евреев не любит. И он так насмешливо сообщил мне в свое время, что имя моей мамы – Голда. В тот же день я утянула мамин паспорт, чтобы заглянуть в него. И точно, там было написано, что она еврейка! Но вместо Голды было Галина.
– Почему ты не спросишь об этом у самой мамы? – удивилась Сара.
– Я спросила. Тогда мама мне и рассказала, что ее родители были евреи. Но распространяться на эту тему она не любит.
– Понимаю, – отозвалась Сара. – Во всяком случае, имя Эстер ты спокойно можешь взять. Реб Довид объяснит тебе, как это делается. А кстати, в следующем месяце будет Пурим, праздник королевы Эстер! Ты здесь появилась как раз вовремя!
Сара встала из-за стола, чтобы подать на мужскую половину второе блюдо – им оказалась горячая разваристая гречневая каша – после чего снова уселась и продолжала разговор.
– Скажи-ка, – переменила я тему, – эта община – как бы подпольная? А все эти иностранцы – раввины?
– Иностранцы – это прежде всего люди Ребе, не обязательно раввины.
– Какого Ребе?
– Любавичского. Он в Бруклине живет и уже долгие годы поддерживает все еврейские общины Союза. Посылает еду, книги, учителей… Благодаря ему все и держится. Раньше было очень тяжело, постоянное давление, слежки, угрозы… Сейчас посвободнее стало. Конечно, все мы под колпаком. Но уже можно одновременно и посещать синагогу, и сохранять место работы или учебы. Это, по крайней мере, позволяет молодежи приходить сюда без каких-то серьезных осложнений. Для парней уже есть иешива, они здесь и спят, и учатся. А девиц, кроме нас с Дорой, больше пока нет.
– Кто это – Дора?
– Приходи завтра утром на молитву, познакомишься, – ответила Сара, дуя на горячую кашу.
– Завтра – вряд ли, – неуверенно сказала я.
Во-первых, утром по субботам есть занятия в университете. Во-вторых, не слишком ли быстро я позволяю втянуть себя в этот внезапно открывшийся мне еврейский мир, так резко отличающийся от привычной реальности?
На сладкое Сара раздала всем какое-то простенькое домашнее печенье, после чего мужчины занялись произнесением застольной молитвы.
Мои свечи догорали.
Москва лежала в снегу – огромная, важная, надменная. Москва и не знала, что есть тут, в районе Рижского метро, в Вышеславцевом переулке, маленькая деревянная синагога, уголок духовного Израиля.
Небо – знало, судя по хитренькому мерцанию звезд, но не выдавало тайну. Снег не был антисемитом. Он нежно убелял все постройки, и синагогу тоже.
Мы с Сарой спустились по лестнице к выходу. Она приложила палец к дверному косяку и объяснила мне:
– Видишь, прибита мезуза. Внутри нее – пергамент с главной еврейской молитвой Шма.
На воротах во дворе также имелась мезуза, и я решила последовать примеру Сары и тоже поцеловать приложенные к мезузе пальцы.
Меня охватило ощущение святости, исходившее от моих собственных пальцев.
– Очень интересно, – только и сказала я.
Сара проводила меня до автобуса, и мне показалось, что она колеблется, сказать мне что-то или нет.
В конце концов она лишь спросила:
– Тебе далеко ехать, да?
– В Люберцы.
– А… Ну, давай, пока. Я тут близко живу. Счастливо!
Мы попрощались, и я со странным чувством вошла в автобус. С меня точно слетела вся чудная святость субботы, и я с ощущением внутренней пустоты оплатила проезд и уселась рядом с парнем в наушниках, который внимал рок-музыке и экстатично дрыгал ногой в такт.
13. Сон и реальность
Через несколько дней после этого шабоса я увидела сон, который был странен, как все человеческие сны, ибо к чему так подходит слово странный, как не ко снам, однако было в нем, помимо присущей всем снам странности, и что-то пророчески-ясное, загадочное, но подлежащее разгадке в будущем.
…Я смотрю на заброшенные рельсовые пути посреди степных трав и слышу во сне, как мне говорят – это Любавичи. Иду вдоль заросших травой рельсовых путей. Рельсы кончаются. Я останавливаюсь. Озираюсь по сторонам. Сбоку от путей нахожу некое строение, похожее на станцию метро, начинаю идти. Спуск в подземный зал. Люди. Одеты – как те мужчины, которых я видела в Марьинке. Впрочем, есть разные. Центр их внимания – старый и очень сияющий человек. Он смотрит на них, собравшихся в этом огромном подземном зале. Стоя на возвышении и безмолвно обращаясь к ним, он делает движение снизу вверх обеими руками, как бы говоря:
– Летите. Летите. Вот так! Выше!
Он побуждает их подняться над собой, над реальностью, над физическим. Они пробуют и вздымаются на метр-два над полом. Я тоже с усилием поднимаю себя и зависаю в воздухе.
Это длится долго. Попытки и взлеты. У всех хоть как-то, да получается. Ребе улыбается и неустанно делает круговое, ободряющее движение руками. То, что это Ребе, я понимаю с чьей-то подсказки, точно так же, как поняла вначале, что местность называлась Любавичи1.
Это был сон.
Проснувшись, я тут же решила ехать в синагогу, чтобы найти Сару и спросить ее, что бы такое видение могло означать.
Я застала ее в верхнем отделении синагоги за перебиранием книг в одном из старых деревянных шкафов. Даже не здороваясь, с ходу принялась рассказывать:
– Слушай! Мне снился Ребе. И Любавичи. И рельсы какие-то посреди степи. К чему бы это?
Сара удивленно выслушала эти и другие подробности, продолжая в то же время возиться с книгами, а вместо ответа на мой вопрос принялась рассуждать:
– Ну и чудеса! Я думала, что ты в синагоге больше ни разу не появишься! Такой у тебя был вид в субботу… скептический, отчужденный. А ты вдруг опять прибегаешь, да еще сон просишь разъяснить!
Действительно, подумала я, почему этот сон сразу заставил меня примчаться в синагогу? Подумаешь, сон! Вон у монашек-то в монастыре каждый день видения случаются… Сны – это несерьезно.
Сара прервала мои мысли вопросом:
– Какой Ребе тебе снился? Вот этот?
И положила на стол маленькую черно-белую фотографию.
Меня аж пробрало!
– Этот! Этот! И руками все вот такие круги делал, будто нам на воздух подняться велел.
– Ну, бывает, – спокойно сказала Сара. – Ребе как кому захочет помочь из тьмы на свет выбраться, так тому и приснится. Это даже скорее не сон, а проявление твоей Б-жественной души. Твоя душа как бы проснулась.
– Что ты имеешь в виду?
– Что тебе надо к Торе приблизиться, к заповедям.
– К Торе? Что за Тора?
– Ветхий Завет знаешь? Вот это Тора и есть. Только никакая не ветхая, а – вечная.
И она показала мне древнюю книгу с тиснеными тусклыми буквами на громоздком коричневом переплете: Т—О—Р—А. Не по-русски, а по-еврейски, конечно. Я вгляделась в эти буквы, и мне захотелось их поцеловать. Но я постеснялась. А Сара вытерла с книги пыль и, поцеловав, поставила обратно в шкаф.
Я подумала: раз эта Тора такая недоступная, такими дивными буквочками написана, то как было бы здорово ее изучить!
Усевшись, по университетской привычке, на стол, я небрежно сдвинула к краю лежавшие на нем книги, и заговорила, взволнованно жестикулируя:
– Слушай, Сарка, научи меня по-еврейски читать! Хочешь – буду каждый день приходить!
Сара почему-то насупилась.
– Во-первых, слезь со стола. Не видишь, святые книги на нем лежат? Да и не принято у евреев на стол усаживаться! Стол – он как жертвенник. И уж не думаешь ли ты, что у меня слишком много свободного времени? Я вон сколько полок еще протереть должна!
– Извиняюсь.
Я в смущении слезла со стола, при этом удивившись, чем это он похож на жертвенник и что вообще это слово означает.
– Ну, уж так и быть: алфавит еврейский я тебе покажу, – сказала Сара.
Мы уселись рядом, и она открыла передо мной книгу, на первых страницах которой был изображен еврейский алфавит.
– Это – Алеф. Выглядит как палочка, соединяющая верхний и нижний крючочки. Это как бы символ: мы, люди, внизу, а Б-г – наверху, и у нас с Ним устанавливается связь. С помощью чего? Изучения Торы и соблюдения заповедей, мицвот. Поняла?
Понимать я не старалась. Я просто… поглощала Сарины речи, а понимание шло само собой. Когда человек ест что-то необыкновенно вкусное, что ему надо при этом еще понимать? Ничего! Вот так и у меня с этими буквочками – в них был такой внутренний свет, что, казалось, вовеки от них отрываться не захочешь. Весь алфавит за пару часов вошел в меня как по волшебству. Алеф, Бейс, Вейс, Гимeль! Шин, Тов, Сов! Я готова была целую вечность сидеть и вглядываться в причудливые буквы, разрисовывать ими листы в толстой тетради по политэкономии.
Сара увидела, что я легко схватываю, и поспешила меня озадачить:
– Главное, да будет тебе известно, это не учение. Учение тебе может показаться легким и приятным. Но главное-то – это соблюдение заповедей. А тут легкой жизни не жди! Меня вот, например, целых два года проверяли, соблюдаю ли я все заповеди как положено – и только потом гиюр сделали. Быть евреем – это целая работа! Столько всяких правил, ограничений!
– Ну, и хорошо, что есть ограничения, – вдруг сказала я, – мне уже надоело жить без ограничений. Дворняжка уличная пусть живет без ограничений!
– Ты вряд ли отдаешь себе отчет, о каких ограничениях идет речь. Я ведь тебе еще ничего не рассказала!
– Зато я и без твоих рассказов знаю, каково жить без ограничений. У нас, например, в университете – нет никакой разницы между парнями и девицами: все одинаково одеты в джинсы, с одинаково распущенными патлами ходят, вперемежку спят, вперемежку прыгают на дискотеках… Разве это нормально? Раньше я думала, что нормально. Я никогда не задумывалась о том, в заключается достоинство или какая-то особая роль, скажем, девушки! У меня и мыслей таких не появлялось, пока я тебя не увидела. Ты ВЕДЕШЬ СЕБЯ по-особенному, как бы сказать… вот именно… КАК ДЕВУШКА!!! Это же просто потрясающе! И если для того, чтобы быть такой, как ты, нужно принять на себя всякие ограничения, то я, пожалуй, с удовольствием приму.
Сара выслушала сии сбивчивые речи, кивнула величественно, как королева, и лишь поправила кружевной воротничок своего черного платья.
Мы договорились, что снова встретимся в синагоге в ближайшее воскресенье. Но мое нетерпение познавать все больше и больше было так велико, что я примчалась в синагогу уже на следующий день. Сару, правда, не застала, но зато просидела целых два часа в женской галерее, перебирая старинные книги, пытаясь узнавать разученные буковки, наслаждаясь самим фактом пребывания здесь, в Марьинке, проникаясь ее святым воздухом, прислушиваясь к беседам мужчин, изучавших Тору в нижнем зале. Даже заплакала почему-то – снова думая при этом пастернаковской строкой:
– О Г-споди, как совершенны дела Твои! … А еще, ни с того ни с сего, у меня в голове пронеслась мысль: вот бы вообще отсюда никогда не уходить! Посуду бы мне им мыть, этим загадочным еврейским мудрецам, полы бы для них драить, что хотите поручите – только дайте остаться здесь навсегда!
И сказала я, обращаясь ко Всевышнему, на этот раз своими словами, не пастернаковскими:
– Г-споди, вот я Тебя и нашла. Спасибо, что привел меня к Себе. Как бы я скиталась всю жизнь, не зная, где Тебя искать? Разве ж можно жить, не зная Твоей воли? А теперь уж дай мне поплакать вволю, ухватясь за деревянные перила галереи и прижимаясь к ним мокрыми пальцами, мокрыми щеками. А уж если зарыдаю во весь голос, то и тогда не взыщи, потому как… люблю я Тебя, благодарю я Тебя, ликую от счастья, так бы и завопила – ибо приблизил Ты меня к Себе настолько, что, кажется, больше уже и некуда!
Интонация у меня пошла, как в плохой русской литературе. Была такая довольно бездарная церковно-славянская литература до Карамзина. Увы, из меня полезло все то русское, что во мне было, и именно так я в своих мыслях изъяснялась, таким напыщенным и судорожным слогом. Однако из песни слов не выкинешь, и потому я передаю все как есть. Я уважаю в себе те чувства, которые тогда испытывала, они были очень, очень искренними… Мужчины в нижнем зале начали молиться. Я плакала себе одна, не могла сдерживать спазму в горле – а потом наступило просто счастье, тихое благодарное спокойствие. У них там, внизу, закончилась молитва, а я тоже свою молитву, свою сокрушительную, страшную, душераздирающую минуту истины пережила, и все прошло, улеглось. Переродилась. Теперь уж больше душа моя не уснет и от Б-га никогда не оторвется, не позволит никому и ничему заслонить от нее истину!
После этого я поехала в университет и… чуть не задохнулась от атмосферы бездуховности, которая там царила. Какие-то мелкие интересы, страстишки, официоз, лживость… Лях, мой неудавшийся работодатель, подошел и подозрительно посмотрел на меня, все больше убеждаясь, что я его избегаю, а я вдруг увидела его абсолютно неживым, мертвым, как статуи в костеле. И не испугалась ничуть ни необходимости ему отказать, ни возможной мести агентов его мафии!
– Что такое с тобой? – написал он в записке, которую перебросил мне во время следующей лекции. Я взяла ручку и быстро нацарапала следующие строчки эпиграммы:
– Ляху.
Ты очень тих – и внутренне застрелен.Как храм, где нет молитвы уж давно.Ты движешься к весьма разумной цели…Лишь сердце католически темно.Прочитав сию эпиграмму, Лях перестал меня преследовать. Очевидно, в ее скупых строчках ему открылось нечто, что сделало и без объяснений понятным мой отказ от предложенной им львовской авантюры.
Я с трудом высидела несколько лекций, думая только о своем и разрисовывая еврейскими буквами листы в толстой тетради.
Нет здесь жизни. Нет воздуха. Нет воды.
Надо бежать. Куда? К евреям, которые заняты изучением и исполнением Б-жественной воли. Там есть ощущение жизни, родниковой воды, чистого воздуха.
После лекций заканчиваю работу в читальном зале, где надо было выбрать главные идеи из нескольких книг, прохожу мимо университетской столовой, и запах мясного борща почему-то ужасает меня, точно это не мясо, а падаль, мертвечина.
Что со мной происходит?
Этот очищающий сон, лицо светлого человека – Ребе, слово Любавичи, произнесенное кем-то так внятно посреди степи… Сара, прекрасная гордая Сара… Возьми меня с собой, в этот мистический чудный мир, еврейский мир!