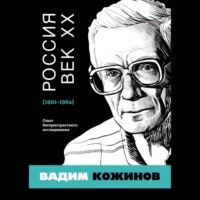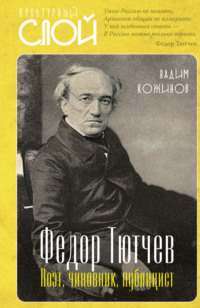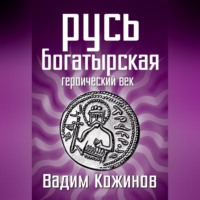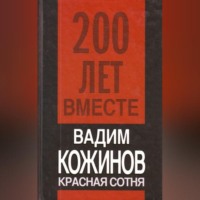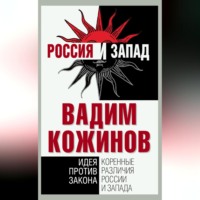Полная версия
История России. Век XX
Двор размещался на тогдашней окраине Москвы – в Новоконюшенном переулке, проходящем между Зубовским бульваром Садового кольца и улицей Плющиха, за которой расположены Пироговские клиники. Менее чем в двух километрах от Новоконюшенного переулка – Окружная железная дорога, фактически являвшая тогда границу Москвы; за ней, в Лужниках, были только весьма обширные огороды. Кстати, маленькие огородики имелись и в моем дворе, который вообще утопал в зелени; были в нем и свои куры.
За забором находились другие – если и не враждебные, то чуждые дворы, и перелезший в них через забор мальчишка рисковал быть побитым тамошними мальчишками. Кроме того, в соседнем дворе жил большой и злой петух, который яростно налетал на пришельцев, стараясь клюнуть их в лицо, а иногда даже совершал атаку на мой двор.
Обитатели двора, в сущности, составляли как бы единую семью, подчас собиравшуюся за одним большим столом. Нельзя не упомянуть, что в силу тогдашней высокой рождаемости доля детей до 10 лет в московском населении была намного больше, чем ныне – более 20 на 100 человек. И из 70–80 человек, живших в моем дворе, было примерно полтора десятка детей, которые непрерывно затевали общие игры, уходившие корнями в далекое прошлое (например, игра «в казаки-разбойники») и нынешним детям, наверно, неизвестны.
Как уже сказано, двор запирался на ночь, но днем в него то и дело наведывались разного рода ремесленники и торговцы, каждый из которых издавал свой напевный «крик»: «Кастрюли паять! Ножи, ножницы точить! Сапоги, ботинки чинить! Старье берем!» и т. д. и т. п., притом «мелодика» этих извещений была различной, и жители двора понимали их, даже если не расслышали слова.
Старьевщики, собиравшие самые разнообразные пришедшие в негодность вещи, предлагали взамен бесхитростные игрушки, и дети старались найти в своих жилищах что-нибудь подходящее и иногда – если взрослых не было дома – притаскивали и вполне годную одежду и обувь…
Во дворе жили очень разные люди: старый большевик-инвалид Ягунов, на его окне красной краской было написано «Интернационал» и «СССР», вдова царского генерала, железнодорожный машинист, носивший почетный значок, и известный всем как вор Витька Волков, побывавший в тюрьме. Тем не менее, все были свои. Большевик не обличал генеральшу, а вор крал в других дворах. И каждый готов был посильно помочь соседям. Словом, существовал определенный лад и уют общей жизни, что, без сомнения, благотворно влияло на детей. Ныне живущие в отдельных квартирах москвичи подчас почти ничего не знают даже о своих соседях по лестничной площадке. Я вовсе не имею намерения как-то идеализировать дворовый мир 1930-х годов; хотя бы тот факт, что жизнь шла на виду у всех, что не каждому было по душе – особенно людям с развитым личностным сознанием. И едва ли теперешние москвичи – в том числе и я сам! – пожелали бы вернуться в тот давний мир. Но все же была в нем своя безусловная ценность, и, помимо прочего, он имел связь с многовековой традицией российской общинности.
Дети, выраставшие в «общине» двора, легко и естественно вливались в школьный класс и, далее, в трудовой коллектив, или армейское подразделение. Известно, что безобразное явление так называемой дедовщины в армии возникло сравнительно недавно; юноши, чья жизнь начиналась в дворовой «семье», не могли творить нечто подобное.
Многие московские дворы потерпели урон в годы войны, когда из- за резкого сокращения поставки дров их заборами нередко топили печи (к 1941 году 54 % жилой площади Москвы имели печные отопления). А после войны заборы уничтожались целенаправленно властями. Как я слышал, это делалось из-за тогдашней вспышки преступности: многочисленные московские заборы помогали грабителям скрыться от охотившихся на них милиционеров. Утрата оград неизбежно нарушила дворовое бытие…
Обрисованный мною феномен двора – это, конечно, только одно из проявлений своеобразия московского бытия 1930-х годов, но очень существенное. Формировавшиеся в «общине» дети получали определенный иммунитет против эгоизма, эгоцентризма, собственничества, пренебрежения к другому человеку и т. п., поскольку подобные черты встречали твердый отпор – вплоть до хотя бы временного бойкота со стороны остальных детей. Вполне ясно, что эти дворы невозможно было законсервировать; генеральный план реконструкции города Москвы, утвержденный еще в 1935 году и весьма последовательно осуществлявшийся в продолжение нескольких десятилетий, должен был уничтожить их. Но в связи с этим лишний раз приходится сказать, что «прогресс» всегда означает не только приобретения, но и потери.
И я готов спорить даже с теми, кто, обратив внимание на только что приведенную цифру – 54 % жилой площади Москвы к 1941 году имели печное отопление, – скажут о недопустимости такого положения, при котором нужно добывать дрова и тратить силы и время на возню с печью, – вместо само собой действующих водяных батарей отопления. В цивилизованной стране, тем более в ее столице, такое, мол, немыслимо. Между тем и сегодня в Центральной Европе в массе домов есть камины, а в Северной – печи.
Мне довелось жить зимой в загородном доме, в котором имелись и батареи, и печь. В очень морозный день батареи не спасали от холода, я затопил печь, и с одной стороны на меня излучалось тепло от металлической батареи, а с другой – от кирпичной, то есть глиняной, земляной печи, в которой пылало дерево. И эти тепловые излучения оказались совершено различными. Тепло от печи было как бы живым и добротным, а от батареи – каким-то искусственным и, говоря метафизически, недобрым: от него даже несколько ломило кости.
Но дело не только в этом. Ясно, – словно это было недавно, а не шестьдесят лет назад, – помню, как бабушка с моей посильной помощью вечерами топила большую печь в нашем доме, – что она делала поистине любовно. Из сарая приносились пахнущие лесом дрова, которые после некоторых усилий разгорались и с веселым треском пылали, превращаясь в угли. Мы с бабушкой внимательно следили за тем, чтобы в печи исчезли синие огоньки – показатели угарного газа, после чего можно было закрыть вьюшку (заслонку) в дымоходе, дабы тепло не уходило из печи до утра.
Молодым москвичам в это, думаю, трудно поверить, но дома с печным отоплением имелись в центре Москвы еще в 1960-е годы. И, кстати сказать, до 1962 года на месте двадцатидвухэтажного дома, в котором помещается известный «Новоарбатский гастроном», был большой склад- магазин распространявший вокруг себя дровяной запах.
Я уже говорил об утратах, к коим ведет «прогресс». Живой огонь, природная стихия, обитавшая прямо в доме, воспринималась как нечто таинственное и чудесное, вызывая своего рода «религиозное» переживание.
Отмечу, что, хотя и был при рождении по воле двух моих бабушек окрещен, непосредственного отношения к религии и церкви я не имел. Одна из бабушек привела меня еще в раннем детстве в храм, и я смутно помню впечатляющее действо литургии, однако отец, узнав про это посещение (вероятно, я сам рассказал о нем) настрого запретил приобщать меня к церкви.
Но врезалось в память одно видение. Зимним вечером я шел с домработницей Нюрой, которая играла также роль няни, по переулку недалеко от дома среди белых стен из снега, который тогда увозили только с центральных улиц – в переулках же дворники в течение зимы возводили вдоль тротуаров высоченные снежные стены, благодаря малочисленности автотранспорта. И вот в обрамлении этих светящихся даже в вечерних сумерках стен предстал также белый еще сохранившийся (действующий) храм, над входом в который – загадочный лик Богоматери, освящаемый лампадой. Это было очень сильным и глубоким впечатлением, своего рода неоспоримым свидетельством существования иного мира…
И еще одно – многократно повторявшееся – соприкосновение с тайной. Рядом с моим домом – сквер с поэтическим названием Девичье поле. Фонари на нем были тогда очень редкие и тусклые, и в морозные вечера со всей силой светилось звездное небо. Я ложился спиной на санки, подолгу глядел ввысь, и это завораживало. Разумеется, я не знал тогда кантовское изречение о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас, но, как мне кажется, нечто близкое к сему чувствовал.
Вместе с тем такого рода переживания без каких-либо противоречий сочетались с увлеченным восприятием тогдашней чисто советской жизни – прославляемыми подвигами летчиков, уже упомянутой ВСХВ, праздничными демонстрациями, на которые отец брал меня с собой с ранних лет.
В последние годы телевидение нередко показывает кинокадры, запечатлевшие физкультурные парады, которые предваряли проход демонстраций на Красной площади; одинаково экипированных и однообразно жестикулирующих спортсменов явно предлагается воспринимать как бессмысленных и бесчувственных роботов. В физкультурных парадах я не участвовал, но что касается демонстраций, в них и в 1930-х годах, и позднее не было ни следа какой-либо закрепощенности и роботизации. Люди, иные из которых, кстати, выпивали стопку-другую у расположившихся вдоль пути демонстрации лотков, были неподдельно веселы, почти непрерывно пели, танцевали и плясали под музыку множества оркестров, баянов и гармошек. И даже перед Мавзолеем в шествии на Красной площади не было никакой тупой парадности, никакого раболепия.
Во второй половине праздничных дней толпа людей заполняла упомянутое Девичье поле, где накануне сооружались всяческие аттракционы, шла бойкая торговля едой и напитками и на помосте, сидя на лавках, часами заливисто пели запомнившиеся мне пестро одетые женщины, которых почему-то называли «бабами рязанскими».
Огромную действенную роль играл тогда кинематограф, – так, фильм «Чапаев» породил популярную среди детей игру «в Чапая», а после появления «Александра Невского» на широком асфальтированном (остальные улицы и переулки возле моего дома были булыжными) проезде перед Академией имени Фрунзе сотни мальчишек постарше меня (мне тогда было восемь лет) с деревянными мечами, щитами и чем-то вроде шлемов, разделившись на два войска, подолгу разыгрывали сражение. Вся Москва знала историю мальчика, в качестве шлема надевшего на голову тесный чугунный горшок, снимать который пришлось в больнице…
* * *Хотя я увлекался многим «советским», нельзя сказать, что был вполне по-советски настроен, и, в частности, не стал ни «октябренком», ни пионером, а в комсомол вступил только в двадцать лет, в университете. Правда я, как и преобладающее большинство мальчиков, был страстным поклонником Красной армии и горячо воспринимал бои на озере Хасан, участие «добровольцев» из СССР в гражданской войне в Испании, битву у Халхин-Гола и Финскую войну, в которой участвовал (в качестве простого красноармейца) младший брат моего отца, родившийся в 1916 году – Федор, или, как он называл себя на английский манер, Тэд. Это был мой самый любимый родственник, и мы с ним активно переписывались, пока он был на фронте.
Недостаточная моя «советскость» была обусловлена тем, что я с ранних лет – о чем шла речь выше – ценил такие явления из «прошлого», которые не вписывались в новый строй бытия и сознания. Позднее, к 14–15 годам, я уже хорошо понимал, что дело обстоит именно так: «прошлое» во многом ближе и дороже мне, чем советское «настоящее». Кроме того, сказалось определенное влияние воззрений моего отца, хотя это было не столь уж заметное, подспудное влияние.
Отец мой, Валериан Федорович (1903–1975), в 1926 году окончил Московское высшее техническое училище и к середине 1930-х годов стал высококвалифицированным специалистом в области водоснабжения, занимавшимся также перед войной и во время войны транспортировкой нефти.
Он участвовал в строительстве водопровода в Магнитогорске и Сталино (Донецке), в 1935 году был на несколько месяцев отправлен в командировку в США для изучения тамошних технических достижений, издал ряд книг и т. д.
Выше говорилось, что мой дед, военный фельдшер Федор Яковлевич, был чистым профессионалом, стоящим далеко от политики, и его сын как бы унаследовал эту черту отца. Правда, после занятия более или менее высокого поста Валериан Федорович вступил в партию (в 1939 году), но, так сказать, вынужденно, а не по собственному желанию.
В целом он весьма критически относился к советской реальности и впоследствии, когда я уже был взрослым человеком, признался, что в стране имеет место не тот социализм, который преподносила пропаганда, а госкапитализм. Но в годы моего отрочества и юности он на те или иные мои вопросы, связанные с политикой, давал вполне «официальные» ответы, и, о чем уже говорилось, запретил водить меня в церковь, а также отверг елочные украшения религиозного характера.
Вместе с тем я – пусть не очень осознанно – чувствовал, что отец не являет собой убежденного коммуниста. Еще более далеки были от этого его сестра – врач Зинаида Федоровна и уже упоминавшийся брат, с которым я часто общался. Отец нередко выражал глубокое удовлетворение в связи с теми или иными научно-техническим достижениями СССР (в коих он и сам участвовал как инженер), но характерно, например, что он не побуждал меня вступить в пионеры, и позже – в комсомол.
Правда в начале 1950-х годов я стал весьма фанатичным комсомольцем, но, как я теперь понимаю, была определенная, заложенная с отроческих лет духовная основа, которая помогла довольно быстро преодолеть овладевшую мною в 19 лет настроенность.
Стоит еще сказать, что мой отец с юных лет сочинял стихи, и в них не было «политики». Они носили чисто лирический характер, и в 1930—1940-х годах едва ли могли быть опубликованы, если бы даже отец к этому стремился; но он, очевидно, понимал, что его стихи не годились для печати в то чрезмерно политизированное время.
Началась война, а с 22 июля 1941 года – интенсивные бомбардировки Москвы вражеской авиацией. В первое время, пока не была налажена противовоздушная оборона, город претерпел очень значительный ущерб, о котором сейчас мало кто имеет представление. Множество жилых и производственных зданий были разрушены мощными фугасными бомбами, а «зажигалки», как их все называли, вызвали массу пожаров. Навсегда осталось в памяти: перед рассветом я с родителями и младшим братом (родившимся в 1939 году) выхожу из надежного бомбоубежища в подвале двенадцатиэтажного дома, а на соседнем, строящемся здании деревянные леса полыхают столь ярко, что светло как в разгар дня.
Отец мой к началу войны был еще молодым, 38-летним{8}, но как специалист, занимавшийся нефтью, получил бронь, а ранней осенью вместе с группой сослуживцев был отправлен в Туркмению. Это, надо признать, было весьма дальновидным решением власти: враг за два с небольшим месяца, к концу августа, прошел полпути к Кавказу и угрожал вскоре прервать доставку нефти и из грозненского, и из бакинского месторождений. Отправленные из Москвы специалисты должны были решить проблему доставки бакинской нефти через Каспийское море и далее, для чего предполагалось строить нефтепровод, а также увеличить добычу нефти на туркменских месторождениях.
Поезд, в котором мы выехали из Москвы на восток, вскоре подвергся бомбардировке и пулеметному обстрелу с воздуха, но, по-видимому, уже имевший опыт машинист то тормозил, то резко трогал с места, и попаданий в поезд не было. Позднее поезд почему-то долго стоял на берегу Волги около Сызрани. Я из тамбура с волнением глядел на великую реку. Находившийся рядом солдат сбегал к ней, набрал в каску воды, отпил глоток и по моей просьбе дал отпить и мне. В этом глотке из Волги чувствовалось нечто священное и нераздельно связанное с великой войной.
Поселились мы в Ашхабаде, но мой отец почти все время был в других местах – на нефтяных объектах, а после перелома в Сталинградском сражении, когда прямая опасность захвата Кавказа отпала, отца возвратили в Москву, где ему предстояло добиться разрешения и на возвращение семьи. Но враг еще находился слишком близко от столицы – под Ржевом, и только после его отступления в начале марта 1943 года, нам было разрешено вернуться.
За год до того в Ашхабаде стало очень голодно – в частности потому, что тамошние климатические условия неблагоприятны для картофеля, который спасал людей в Москве.
Когда мы возвращались в начале апреля 1943 года в Москву, я перенес то тяжелое недомогание, которое постигло многих людей, вырвавшихся из блокадного Ленинграда.
Дело в том, что перед отъездом кто-то надоумил мою мать купить для обмена на продукты в дороге стекла для керосиновой лампы, которые имелись в ашхабадских магазинах. И действительно, на некоторых станциях за такое стекло отдавали, например, две жареные курицы. Отвыкший за год от подобной пищи, я съедал ее буквально с костями, и в результате ко дню приезда в Москву еле-еле передвигал ноги…{9}
III
«Я был связан за свою жизнь с многими тысячами людей…»
Когда я пришел в университет, там была такая атмосфера, я бы сказал – левее Сталина, и к тому же, что особенно поражало, среди студентов, хотя многие думают иначе, были и такие, чьих отцов репрессировали как «врагов народа»: например, Станислав Лесневский или Георгий Гачев, который тем не менее был комсомольским секретарем нашего курса. Причем там была большая организация, почти райкомовского уровня – 300 комсомольцев. И он был очень ярым таким секретарем, проводил разные персональные дела – несмотря на то, что его отец сидел в лагере… Да, в МГУ был человек высочайшего уровня, Сергей Михайлович Бонди. Хотя считается, что в те времена господствовала казенщина, на самом деле все было далеко не так. Бонди никто не запрещал, никто ему не мешал читать эти лекции. А он позволял себе чрезвычайно рискованные вещи. Например, я вспоминаю такую его фразу: «Товарищи! (Он говорил: товарищи) Мы не можем ни улучшать, ни ухудшать историю. Товарищ Сталин запретил нам это делать!» Или, например, еще характерная для него фраза: «Товарищи! Если какой-нибудь формалист говорит, что дважды два – четыре, это не значит, что он не прав». Бонди был фигурой легендарной, он входил в круг Блока, бывал часто у него дома. И хотя он не считал удобным афишировать свои близкие отношения с этим великим поэтом, но иногда упоминал, что, вот, Блок при мне говорил то-то и то-то. Кстати, есть у меня толстая тетрадь, где записаны его лекции, которую я до сих пор с удовольствием просматриваю. Этот человек действительно многое дал мне. Вот, например, его суждение: «В чем задача филолога? Он должен положить руку читателя на пульс произведения». Бонди это делал виртуозно. Правда, однажды его отстранили от чтения лекций, но к идеологии это никакого отношения не имело. Бонди читал самый, пожалуй, ответственный курс – историю русской литературы XIX века. Курс был рассчитан на три семестра. Так вот, представьте, что к концу второго семестра он еще не покончил с Пушкиным, в творчество которого был абсолютно погружен. Курс поручили кому-то другому, и этот преподаватель был вынужден за один семестр прочитать все остальное. Могу сказать, что я выбрал себе в учителя Бонди. […]
Я активно печатался в университетской многотиражке, еще в каких- то мелких изданиях, а в 1952 году, на третьем курсе, вышла моя первая публикация в «Литературной газете». И темой этой публикации был, представьте себе, Маяковский, поскольку я в университете проникся какими-то, скажем, еврокоммунистическими настроениями. И я, который до того поэзию Маяковского совершенно не воспринимал в силу своей аполитичности, начал активно им заниматься и пришел на семинар к Дувакину, очень живому человеку, прекрасно знавшему поэзию, но имевшему на нее весьма своеобразный взгляд. Он считал Маяковского центром, вокруг которого вертятся все остальные поэты, но это другой вопрос. И там, на семинаре Дувакина, я познакомился с Андреем Синявским, который тогда уже учился в аспирантуре, поскольку был старше меня на пять лет. Да, в последних своих интервью Синявский не раз обращался к этому периоду, но в такой забавной интонации: дескать, Кожинов тогда пришел ко мне звать на какое-то антигосударственное сборище, корил за мой отказ, называл трусом, а в конце концов посадили в лагерь меня, а не Кожинова. Но в то время он часто заходил ко мне в гости, причем, как правило, с женой, с собакой, которую назвал Иосифом в честь Сталина, и с двумя бутылками водки. И когда они на пару с супругой выпивали грамм двести, то начинали петь за столом разные песни, в том числе и такую: «Абрашка Терц, карманник всем известный…» У меня даже были магнитофонные записи их пения. Так что когда на Западе появились «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца, мне сразу стало ясно, кто автор.
Когда я заканчивал университет, разгорелся большой скандал, связанный с нашим преподавателем Белкиным, которого начали выгонять. Тогда я организовал адрес в его честь, а затем мы с другими студентами даже пошли в партбюро, чтобы его защитить. В итоге вместо аспирантуры, куда меня рекомендовали, я получил распределение в железнодорожную школу в Амурскую область. И это при том, что у меня уже было несколько серьезных публикаций, готовилась большая статья в «Вестнике МГУ». Но в Амурскую область я не поехал. Я сдал экзамены в аспирантуру Института мировой литературы. Туда был конкурс десять человек на место, и я прошел, всего на один балл опередив Андрея Вартанова, ныне известного телеобозревателя. Так что это было значительным достижением для меня, поскольку освобождало от распределения. Если бы не это, неизвестно, как бы сказались на мне годы, проведенные в Амурской области. Может, спился бы или что-то в этом роде…
Я уже с середины 50-х был знаком со многими писателями, поэтами прежде всего, находился с ними в постоянном общении. В частности, с такими мастерами, как Борис Слуцкий и Александр Межиров. Я до сих пор считаю их значительными поэтами, творчество которых стало, может быть, не крупным, но неотъемлемым звеном в развитии нашей литературы. И та группа молодых поэтов, с которыми я сблизился чуть позже: Анатолий Передреев, Станислав Куняев, Владимир Соколов, Николай Рубцов, еще целый ряд авторов – они многому учились у Слуцкого и Межирова. Может быть, сегодня кто-то удивится: как же так, а национальная проблема? Но в те годы ее просто не существовало, а кроме того, русских поэтов такого уровня в том, фронтовом, поколении тогда не было. Наровчатов, Луконин выступали явно слабее. Прекрасный поэт Сухов жил в Сталинграде и был малоизвестен. А эти люди в то время были у всех на устах. Но Межиров все-таки был больше сосредоточен на себе, а Слуцкий очень активно опекал этих поэтов – вплоть до того, что материально помогал.
И потом это направление не слишком удачно окрестили «тихой лирикой». Во всяком случае, у Рубцова ничего тихого нет, он свои стихи всегда читал на пределе, иногда выкрикивал даже. И к концу 60-х годов это направление стало стержневым в поэзии, так что Евтушенко даже пожаловался: вот, мол, тихая лирика совсем заглушила громкую. А ведь начиналось всё с нескольких людей, которые собирались за одним столом, в том числе за моим, – больше ничего и не было. Но потом, после гибели Рубцова, все стало как-то распадаться…
Еще в 1961 году я выступил на дискуссии в журнале «Вопросы литературы», где сказал, что совершенно ложно представление о Евтушенко и Вознесенском как о каких-то оппозиционных поэтах. Это официальные поэты хрущевского режима. Напечатали мои слова в сильно смягченной форме, но они прошли. Помню, меня еще спросили с места, кто же тогда Грибачев. Я ответил, что, конечно, оппозиционер. Пусть справа, но оппозиционер.
Довольно давно один из моих академических друзей вспоминал времена, когда за одним столом собирались самые разные люди: он называет Передреева и Битова, Алешковского и Рубцова. Но это был стол, о чем он не упомянул, который стоял в моем доме. И, занимаясь академическим литературоведением, я связывал действительно очень многих писателей и не только писателей. С Алешковским, кстати, я еще учился в одной школе. Его, правда, выгнали оттуда в 1943 году за хулиганство – он ударил железным прутом по нижней части учительницу математики, которая поставила ему двойку. Времена тогда были суровые, и, можно сказать, Юзик еще легко отделался.
Этих людей объединяло, скорее, все-таки негативное начало. Получалось так, что в неприятии существующего больших различий еще не было. Они начали намечаться позднее, и именно в плане того, за что мы боремся. Тут, где-то с середины 60-х годов, когда я уже начал писать о современной литературе, начался раскол. И самой выразительной была история с журналом «Молодая гвардия», который вдруг стал таким вот патриотическим и даже монархическим журналом. На него накинулись все, и «Октябрь» даже раньше, чем «Новый мир». Появилась некая «третья сила», которая стремилась ликвидировать разрыв между дореволюционной Россией и Россией послереволюционной, что раньше было не то что невозможно, а попросту немыслимо. В частности, был такой подпольный публицист Шиманов, который прямо написал, что нам нужно слить монархизм и коммунизм воедино – тогда мы будем спасены. Такое было возможно после войны и не реализовалось потому, что мы распространились на весь мир и не могли вести сугубо национальную политику. «Мы родом из Октября», «Мы – дети XX съезда» – это были ведь не пустые декларации, а реальное мироощущение того времени. А я глубоко убежден, что высшим достижением нашей культуры была не литература, а русская религиозная философия и русское православие.