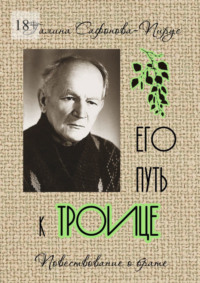Полная версия
Ведьма из Карачева. Невыдуманная повесть
– Мам, свинья-то наша заболела!
– Ох, да что ж такое? – она-то.
Подходить, толкаить ее… Да нет, не похоже. Свинья-то как заболеить, так сразу розовая сделается, а эта подняла морду, поохала-поохала, да и всё. Выбегаем в сенцы, глядь, а наши коврижки хлеба под лавкой и валяются. Но мякиш из них повыеден, а корки и ляжать чемоданами. А-а, так вот чего свинья!.. В хату, значить, забралась, нажралася хлеба и спить себе.
Да что – свинья. Соседи тоже помогали разоряться, не у всех же совесть была. Оставалася у нас еще сбруя лошадиная, вот мамка и спрятала ее на потолке.
А раз прибегаем мы с улицы и слышим: кто-то по потолку ходить! Что делать? И сообразили, взяли да убрали лестницу. Смотрим, с потолка голова свисаить:
– Девки, поставьте лестницу назад.
– А что ты там, дядя, делаешь?
– Да я тут… кое-что выбирал.
– Положи, дядя, на место, а то мамка нас побьёть.
– Да я немного, я чуть-чуть…
А мы – своё. Да и лестницу не ставим. Ну, он то просил нас, то умолял нас, а потом и матом ругать начал. И продержали мы его там, пока мамка не пришла.
– Бесстыжие твои глаза! – начала его совестить. – На сиротское позарился!
Ну, поругала его, поругала, с тем-то он и ушел. Не удалось ему, значить… А другие половчее были, вот и расташшыли всё, что оставалося. И даже подушки поразволокли, одну мамка как-то у соседки обнаружила, а та:
– Да я на огороде её нашла.
А, может, и на огороде. Может, и мы туда её заташшыли.

Так-то и докатилися мы до того, что и прикрыться нечем стало, и обуться не во что. Как помер отец, так и не помню, чтоб у меня обувка какая была, опорки мамкины старые есть, ну и ладно. Или чуни одни на всех, надвинешь на ноги, да и выскочишь на улицу… а то и вовси босиком. Напротив нас соседи жили, семеро детей у них было. И вот зимой как соскочишь с печки да как лупанёшь к ним через дорогу босиком!.. И сразу – на их печку. А она у них бо-ольшая была! Разогреешься, наиграешься там и-и домой. Бяжишь, а снег под ногами!.. Когда обутый то идешь, ведь не так он хрустить, а вот под босыми ногами… во, когда неприятно! Как-то по-другому хрустить он и колить… Лапти? Да были, были тогда лапти, в каждом дворе их пляли. Трыковка, Верховка, Мокрое, Рясники наши… это все лапотниками звалися. Были и у меня лапоточки, сплёл их мне как-то дед и крепко ж мне понравилися! Но раз десять, нябось, упала, пока научилася в них ходить. Они ж ши-ирокими показалися, цепляются друг за дружку и всё… Для морозной зимы лапти крепко хороши были! Легкие, удобные. Бывало, если в лес мужик едить, так валенки, чтолича, обувать будить? Не-е, лапти обязательно. Пенькой их подплятёть, онучи31 одни, другие накрутить и по-ошел… А уж как оттепели начнутся, так в них плохо. Ноги-то все-егда мокрые будуть, вода по онучам, как по фитилям поднимается. Но лапти больше для взрослых пляли, это ж онучи надо было уметь наворачивать, а мы, дети, зиму в кой-чём перебивалися, а как только снежок сойдёть и по-ошли босиком. Бегаем все лето, так потом ноги черными стануть, как лакированные всёодно, да и цыпки заведутся. Другой раз нагреить мамка воды, начнёть их нам мыть, а мы плачем, кричим! Больно ж… Но потом смажить маслицем конопляным, а во приятно!

Помню, когда подрастать я стала, подарил мне солдат, что стоял у нас на квартире, ботинки свои старые. Вот радость-то была! Они ж большие, крепкие! Так что я? Стельки – туда, портянки одни, другие и как придешь на работу… Ох, ноги-то… прямо горять! И вот в таких-то ботинках я и ходила года четыре, пока свататься не стали. К той поре купила мне мамка туфельки востроно-осенькие такие! Как же я их берегла, как чистила! Думаешь, в них сниматься шла? Не-е, туда я их несла, а только и обулася, когда пришли с подругой к Мендюку-фотографу… Любил он над деревенскими посмеяться, вот и сунул мне в руки книгу, а она, нябось, полпуда весила. Помню, стою с этой книгою и ни-икак не удержу в руках, а он смеется:
– Ну на что вам фотокарточки-то?
– Нужно, – отвечаю.
А нужно вот чаво… Когда отец то помер, так ни одной фотокарточки от него не осталося! Поэтому мать всё-ё так-то и скажить:
– Была бы фотокарточка моего Тишечки, так хоть взглянула б на него!
А у меня здоровье пло-охое было, всё ноги болели. Сейчас заболять, затрусются, не устоишь прямо, вот мать и хотела… А тут как раз подруга пошла к Мендюку сниматься, мамка и попросила взять меня с собой, как раз тогда-то она мне платье первое сшила из альпаги… Да была такая материя и стояла, как рочег32. В этом-то платье из альпаги я и снялася, и было мне тогда уже пятнадцать лет… Во, видишь, до пятнадцати и ходила кой в чем. Если мамка сгондобить33 что из своего старого платья, то и ладно. Или смертное носила. Я же в детстве ча-асто болела, а как заболею, так и сготовють мне платье смертное. Сшила раз так-то мамка мне розовенькое, красивое платьице, а я и выздоровела. И повели меня в нем к обедне. Стою, слушаю, как певчие поють… А жарко было, я раскраснелася вся, и вдруг подходить ко мне дьякон:
– Ах, какая девочка хорошенькая! Глазки черненькие, щечки и платьице розовенькие! Ну, как ангелочек всё равно.
Вот тут-то я и подумала: видать, и вправду я хорошенькая, раз дьякон говорить.
А то бывало бабка моя всё нет-нет, да и скажить:
– Тебе, Машенька, помереть бы лучше. Крепко ж ты страшная! И кому нужна будешь?
А дед Ляксей и вскинется:
– И что ты плятёшь, старая! Да Машенька у нас королевной будить! Смотри, какие глазки у нее красивые!
Вот и поспорють с ней так-то.
Глава 6. На всю жизнь впечатлилася
В ту пору34 мамка на пенькотрепальную фабрику ходила, но жить нам было трудно, и вот раз приходить домой и говорить:
– Пора и тебе, Маня, на работу.
А шел мне тогда девятый год. И повела на бахшу Подошли к бахшевнику, а он как начал матом садить:
– Тудыт-твою-растудыт-твою! Не успеют выскочить, а им уже работу подавай! Что я, манную кашу ей варить буду чтолича?
А я стою и думаю: видно и вправду я такая уж никудышная. Но ничего, поругался, поругался, но взял.
И была эта бахша недалеко от нас, а хозяйничал на ней Барок. Батька его когда-то арендовал эту землю, а теперь вот и сын… И до самой революции они на ней овошшы вырашшывали, а потом… После революции35 то запустовала эта земля, заросла травой, болотом покрылася, а тогда солько ж добра давала! Урожаи на ней росли богатые. Но как же тяжело было на этой бахше работать! Бывало, начнется сбор огурцов, так цельными днями спину не разгибаешь. А надсмотрщик следом ходить и если заметить, что огурец пропустила, сорвёть его да как дасть им тебе в спину! Аж подскочишь. А когда полотье начиналося, садка капусты… Ведь воду для поливки надо было таскать из речки, да по два ведра сразу, и девчата, что постарше, обгонють нас, маленьких, когда побежим в сарай за ведрами, похватають себе те, что поменьше, а нам и останутся большие, вот и таскаем потом их. Да все ж босиком, босиком! Бяжишь рано утром на эту бахшу, а трава росная по ногам так и хлышшыть, так и хлышшыть! И это еще ладно… летом-то, а в августе, во когда лихо от этой росы становилося! Она ж хо-олодная, долгая! Только, бывало, и поглядываешь на небо… когда ж солнышко-то пригреить, чтоб её высушило!
Зарабатывали мы за неделю копеек по восемьдесят, а когда начиналася садка капусты или сбор огурцов, так еще и прибавку выторговывали. Подойдем к бахше… а там ракита возле росла, сядем под ней в холодок и сидим. Хозяйка выйдить:
– Девчат, пора ж работать-то…
А мы си-идим, а кто побойчее, и начнёть с ней торговаться, чтобы вечером еще и по булочке дала. А раз так-то подозвала меня к себе и говорить:
– Маня, ты девочка хорошая, послушная, вот я и хочу попросить тебя. Если девчата замышлять что начнут, так ты подойди ко мне и скажи: так, мол, и так…
– Ладно, – говорю, – скажу.
А я и вправду послушная была. Другая, можить, и заартачится, а Маню – хоть в омут посылай. Вот она меня и высмотрела, и начала… или в город пошлёть что снести, или еще куда. А мне ж легче это, чем полоть или воду таскать? Потом еще и булочку мягонькую дасть, или баранок несколькок. А теперя, значить, и для этого дела высмотрела и стала ей передавать. Стала, значить, всё, что девчата удумывали, ей передавать, а они узнали и устроили мне суд страшный… А вот такой. Кончили мы раз полоть, собралися домой. А ходили через речку, через мост деревянный, и доски на этом мосту взъерошились так, что босыми ногами наступить было страшно. Подошли к этому мосту, а девчата схватили меня, заголили юбку и кричать:
– За то, что ты все передаешь хозяйке, мы тебя сейчас голой задницей по мосту проташшым.
Да ухватили за ноги и поволокли. Я как закричала!.. Бросилися мои подруги выручать меня, за руки схватили, к себе тянуть. Крик, шум! А тут из города бабы как раз шли, да подскочили:
– Что ж вы это делаете, злодейки! Забясилися чтолича!
И отбили меня от девчат, отташшыли. Прибежала я домой зарёванная, а навстречу – мамка:
– Чего ты?..
Рассказала ей всё, а она выслушала, да говорить:
– Стоить тебе! Только не по мосту надо было таскать, а крапивой высечь.
Но на другой день, когда пошли с девчатами на работу, догнала нас и говорить:
– Это кто тут хотел мою Маню по мосту проташшыть? Да я вас нонча ж к уряднику отведу!
Испугалися девчата, начали оправдываться: не я, мол, не я!.. А мамка покричала на них, покричала, да на том-то дело тогда вроде и кончилося.
Но потом отомстили еще раз. Узнали, что я боюся красных дождевых червяков, да набрали их и высыпали мне за пазуху. Как же я кричала, как билася!.. Сбежалися тут все, червяков этих повытряхнули, а я всё никак не могу успокоиться. Еле-еле потом до дому дошла! А к вечеру приключился со мною жар. Всю ночь я бредила, и проболела так недель шесть. Так что бахша эта на всю жизнь так впечатлилася, что и вспоминать о ней не хочу… Да нет, одна радость всё ж запомнилася, как первую получку дали. И всю – гривенничками36 новыми. Завязала я их крепко в косячок, пошла домой и от радости-то не шла, а бежала. Да не улицей, а по заречью, там же крепко хорошо было летом ходить! И вот, помню, пройду немного, сяду, развяжу платок и начну считать. Нет, не хватает одного гривенника! Стану искать… а трава ж кругом! Ползаю, ползаю по ней: ну где ж я его обронила? Ничего не найду, заплачу, пойду назад, пройду сколько-то, остановлюсь. Дай-ка пересчитаю! Сяду, развяжу косячок… Теперь лишний. Обрадуюсь!.. А потом и подумаю: откуда ж лишний-то? Он же не мог обсчитаться, хозяин-то? Снова начну считать. Или все, или не хватаить… Так до самого до дома и мучилася. Ну, наконец, пришла, стала мамке рассказывать, а она:
– Господи, какой же разум-то у тебя еще… Да завязала б покрепче в узелок и шла спокойно.
Ну, как же спокойно-то? Эти ж гривеннички новенькие блестящие – труд мой! Как же на них смотрела, как любовалася ими!
И проработала я на бахше до осени, а к зиме мамка говорить:
– Надо тебе, Маня, в школе поучиться.
Как же я обрадовалася! Мои-то подруги, которые с отцами жили, уже все в школу ходили. А была она недалеко от нас, в большой хате, и там сразу три класса училися. Пошла туда. И как сейчас помню: стоить учительница, а дети подходють к ней по одному и кланяются. Подошла и я, но не поклонилася, а руку ей протянула. Протянула руку, а она так-то посмотрела на меня да говорить:
– Руку учительнице подавать нельзя.
И не подала. Ка-ак все засмеялися! А мне стыдно стало. И так невзлюбила её, что до самого конца ученья своего так ни разу к ней и не подошла с вопросом каким.
А писали мы в школе грифелем на дошшечках, чуть побольше тетради те были и в рамочке деревянной. Зададуть тебе на дом столбик или два, вот и считаешь, а потом сотрешь тряпочкой и опять… Напишешь, закроешь ее аккуратненько и несешь в школу… Бывало другие-то дети как принесуть эту дошшечку, а она и в тесте, и в картошке, и кто ее знаить в чём… Но выучилася я писать буковки, потом… До холодов-то ходила я в школу в ботиночках таких, как шелковые всеодно были, износилися быстро, надо обувку новую покупать, одёжу, а за что? Мамка и говорить:
– Хватить, выучилася. Похлебку сваришь и неучёная, а в церкови поминанье как-нибудь найдешь. Куплю я тебе книжку, вот и учись по ней.
На том-то моя учеба и кончилася… Но книжку и вправду купила, «Василиса прекрасная» называлася. Бывало, читаю-читаю ее, а ни-ичего не получается! Пока одно словечко сложу, другое и забуду. А раз пришла к нам соседка и начала читать. А во интересно! Заслушалася прямо.
Ну, просидела дома зиму, а к весне ноги-то и отнялися… А вот так. Вовсе отнялися. Стали всёодно как отсиделые и всё лето я пролежала. А мать-то на работе. А Динка-то с братцем укрутятся на улицу, вот я цельный день и одна. Придуть так-то вечером соседи:
– Ну, Дунь… как она?
– Да ляжить, не поднимается.
И еще монах к нам ходил, здо-оровенный такой, плечистый. Нестором звали. Придёть, станить возле печки и глядить на меня. Другой раз и с час так простоить, а мамка спросить:
– Что ты, Нестор, смотришь-то на нее?
А он:
– Да ничаво, ничего Ляксевна…
А говорили, что он лечил так. Другой раз гляну на него, а у него глаза голубые-голубые! Улыбнется:
– Девочка Маня хорошая. Выдерится она, Ляксевна.
И выдралася. Раз так-то крутилася-крутилася на лавке… Слышу ж, там-то, на улице дети играють, кричать… вот и добралася кое-как до ухвата, оперлася на него, поднялася, подвигала к порогу. И только одно помню: какая ж радость в душе забилася, когда, наконец, улицу увидала! Светло-то как, солнышко светить, травка зеленая растёть! Стою и смеюсь!.. А дети как бегали, так и бегають. И никто на меня внимания не обратил, что сама вышла. Будто так и надо… и ладно.
Прошло недель шесть. Ноги мои окрепли и засобиралися мы на Масловку к дедушке, как раз праздник церковный приближался. А там ровесницы наши жили, дядины дочки Саша, Таня и Дуня. Только пришли к ним, а Дуняшка сразу и затараторила, как ходили они с матерью в женский монастырь к тетке-монашке, как провела их та к себе в келью, напоила, накормила, а еще как потом на паперти девочки пели:
– Ну, как ангелочки всеодно! Все в платьицах одинаковых, платочки на них беленькие, свечечки в руках, – все сыпала и сыпала: – Манечка, ну как же там хорошо!
И стала меня уговаривать идти в монашки, её-то родители уже согласилися: пусть, мол, идёть, нам за это Бог грехи простить, да и ее душа спасена будить, а теперя дело за мной и моей маерью. Ну, я-то сразу согласилася, а вот мамка:
– Не-е, пусть на миру живёть. Работать будить, детей выхаживать. А там что? Без всякого роду-племени останется?
Но потом и она согласилася, сказала деду Ляксею, а тот:
– Ну чего они в монашки пойдуть? Горбатые они, чтолича, аль кривые? Ведь там хорошо тем, кто деньги в залог вносить, тогда их и рукоделию учуть, грамоте, а наши девки будуть на скотном дворе работать.
Но мы – свое! И пришлось дедушке запрягать лошадей да ехать к той монашке, она как раз гостила у родных в соседней деревне. Привез и говорить:
– Мать Марфа, расскажи ты им, неразумным, всё, как перед Христом.
А она:
– Ляксей Ляксеич, все расскажу, ничего не утаю. Отговаривать их – грех большой, а сманивать – не меньший. Слушайте.
И начала: как же трудно ей было, когда изменил ей ухажер и женился на другой! Не вынесла она позора этого и ушла в монастырь.
– Бывало, как приснится обидчик мой, так плачу-плачу у себя в келье!.. А со мной старая монашка жила, так подойдёть и начнёть уговаривать. Успокоюсь, а потом – опять… И мучилася я так с год. Но потом привыкать стала, и отослали меня на кухню. Три года тесто там месила, пока ни постригли в монашки, ни дали другое имя.
– И как там живется? – стали приставать с Дуняшкой.
– Да работы в монастыре много. Ведь всех накормить надо, обшить, всюду прибрать, воды наносить. А когда праздники подходють, то и вовсе чуть с ног ни валимся. Народу-то вон сколько в монастырь приходить!
Послушали мы с Дуняшкой, послушали и разочаровалися. Думали-то, что будем там только молиться да по саду гулять, а оказалося во-он что!
Глава 7 И соскочил с меня страх
Всю зиму просидела я дома, а к весне повела меня мамка на фабрику:
– Будешь со мной работать. Здесь хоть и трудно, но хорошо платють.
А шел мне тогда уже одиннадцатый год. Привела в сарай, где работали, и вот как сейчас помню: стоять бородильшыцы и пеньку бородють. Перед каждой шшеть закреплена, а на ней – в два ряда зубья острые… И бо-ольшие, с полметра, должно. Бярёть бородильщыца бородку пеньки, кидаить на эту шшеть и-и на себя ташшыть, и на себя. Когда вся костра от нее отсыпется, так пенька пышная становилася, мягкая, и называлася уже не бородкою, а папушею. Возле каждою бородильшыцы еще и кон стоить, как только она набъёть его до верху, так и отнесёть к приемшыку, а тот стоить, выворачиваить эти папуши, смотрить: как она сбородила, сколько? Хорошая бородильшыца четыре пуда за день могла набородить, копеек по пятьдесят зарабатывала.
Осмотрелася я чуть, а мне и говорять: вон из-под тех-то и тех-то бородильшыц костру вынимать будешь. И должна я была подойти к каждой, набрать в постилку костры, снести ее на грогот и высыпать в него… Что за грогот? Да был он должно с нашу печку, метра два над полом. Сейчас как сыпанёшь костру в него, так он и закрутится, костра отсеивается, отсеивается и когда, наконец, останется от нее одна брызга, то должна я ее отнести к той бородильшыце, у которой и выбрала. Ну, проработала я первый день на этом гроготе и аж задохнулася! Казалося, что забила пылишша все мои легкие и ни-икак не прокашляться, ни-икак не продохнуть! Говорю мамке:
– Ма, крепко ж трудно! Лучше я опять на бахшу пойду, там хоть и тяжело, но все ж на воздухе.
– Привыкнешь, – только и ответила.
И осталась я, и привыкла. Кончали мы работать в шесть часов, а летом в эту пору солнце высоко-о стоить! Тепло, зелень кругом, до деревни километра четыре. И вот идем, бывало, песни кричим. Весело-то так! А ходили мимо бахши, и подруги-ровесницы, что там осталися, всё-ё завидовали. Мне-то на фабрике платили двадцать копеек за день, а им только по десять.
Как-то раз получку нам задержали допоздна и так случилося, что девчата, с которыми домой ходила, ушли раньше. А было уже часов десять. Ну, зашла я к пекарю, купила булочек горячих, а хозяйка и говорить:
– Что ж это ты так поздно, девочка?
– Да мне тут… недалеко, – отвечаю.
– Не-ет, доченька, вижу я, что ты из деревни, – она-то. – Но ничего, бяги. Тут, вроде, спокойно, Бог дасть, никто не обидить.
Пошла я… Ну, когда шла по городу, хорошо было, народу много гуляло, а вот когда за город вышла… Ни души! А тут надо было переходить через мост тот проклятый… Говорили-то, что в двенадцать ночи под ним нечистые силы сбиваются и что раз человека под ним зарезали… А так дело было. Недалеко от этого моста жил бедный мужик со своим семейством, и однажды убил какого-то богача под этим мостом. Рзбогател. Но когда прошло много лет, стал он раз под праздник барана резать, а тут – крик: «Человека убили, человека зарезали!» Выскочил на улицу, а руки-то в крови! Да еще и нож… Вот и закричали сразу: это он убил, он! Отнекивался этот мужик, отнекивался, но ничего не помогло. Схватили его. И только на суде он признался, что да, убил человека, но давно это было… Да и вообще, много страшного рассказывали про этот мост, и вот когда я все это вспомнила, то аж волосы дыбом стали. И почувствовала, как платок стал на голове подыматься, да и вся всёодно как задеревенела и ни-икак не могу ступить на доски! Побежала назад, а сама и думаю: а как же дома-то?.. меня ж мамка ждёть, волнуется. Да вернулася, подошла к опять опять… а ступить на него всеодно не могу! Рядом столб стоить, а мне кажется, что сатана. И рога то у него длинные-придлинные! А когда зашла сбоку да глянула под доски… А там – черти! Кишать прямо и ждуть, когда я только ступлю на него и тогда они схватють меня и сразу слопають. Но идти ж надо? Ну, думаю, пусть будить Божья воля! И как пустилась через этот мост что было силы! Бягу, пятками по бревнам стучу, ног под собой не чую и думаю: это черти за мной гонются!.. Ну, а когда почувствовала землю теплую под ними, то притормозила чуток, оглянулася. Никого нетути, темень вокруг… Да остановилася, отдышалася, отошло сердце и пошла дальше.
Вот тогда-то и соскочил с меня мой страх последний. И соскочил на всю жизнь. А помог справиться с ним мой дед Ляксей. Всё-ё он мамке так-то советовал:
– Ты, Дуняш, так воспитывай детей, чтоб они ничего не боялися.
Да и мне часто говорил:
– Не верь ты, Машечка, ни в чертей, ни в сотан. Всё это от невежества людского. – И начнёть учить: – К примеру, показалося тебе в углу чтой-то, а ты не бойся, подойди да обязательно пошшупай. И когда убедишься, что там ничего нет, тогда и не будить страшно.
Хотел он, чтобы мы ничего не боялися. Понятное дело. Мать-то рано на работу уходила, мы одни оставалися, и ну если покажется что-то? Будем сидеть и выть, а мать… Когда ж она вернется-то? Вот и старалася я не верить ни в чертей, ни в сотан, ведьм, а другие… А то другие. О чертях да ведьмах только и судачили.
Раз надо было нам с Динкой у подруг переночевать. А хата ихняя как раз напротив нашей стояла, и семья-то раньше на Украину уезжала, а теперя родители еще там оставалися, а девки вернулися. Пошли мы к ним, постелилися, легли. Все сразу заснули, а я никак не могу! Как навалилися на меня клопы! Поймаю какого, а он тошшый, здоровенный! Видать проголодалися без людей-то… Не сплю я, значить, и вдруг слышу: у сосонника собака залаяла. Ну, думаю, видать Ванька Зюганов и ночами что-то себе в лесу промышляить, собака-то его была. А тявканье все ближе, ближе. Уже и к сараям приближается, и воз его вроде бы заскрипел, и лошадь вот-вот покажется. Ан нет, не слышно топота лошадиного. И вдруг из проулка Пятровна выходить! А про нее говорили, что она ведьма. Идёть теперича эта Пятровна в сарафане, в повойнику37 и волосы у нее развязаны, а за ней – собака. Идеть и прямо к нашему дому приближаецца, к окнам нашим! Я где была!.. Ну, думаю, ка-ак сиганёть сейчас к нам в окно, так всех нас сразу и передушить. Но она по-ошла, пошла мимо и всё-ё рукою так-то, рукою на собаку… вроде как отстраняить её, а та всё тяв да тяв, тяв да тяв. Ну, прошла мимо окон, свернула к заднему огороду и-и по картошке… Бросилася я девок будить, рассказала им всё и ка-ак лупанули мы кубарем через дорогу, как забарабанили в нашу дверь! Мамка выскочила:
– Что вы?
А мы влетели в хату и – ни слова! Еле-еле нас успокоила…
А эти Зюгановы всегда славилися: ведьмы да ведьмы. Бабы всё судачили, что, мол, когда свекровь этой Пятровны помирала, то перед смертью попросила у дочек попить, а они так и не подали ей воды:
– А-а, мам, тебе всёодно помирать.
Да тогда ж как говорили… Кто подасть ведьме перед смертью водички, тому она и передасть свое ремесло, вот дочки и боялися. А невестка возьми да сжалься… и подала. Ну, свекровь вскорости помирать стала, так что ж ты думаешь? Зять и полез потолочину выламывать, чтоб ее душа не задержалася. Значить, верил, что она ведьма. Во, темнота какая!.. Ну, умерла свекровь, похоронили её. А ночью с невесткой и приключился жар. И стала утром рассказывать, как летала на Лысую гору, как ее там черти встречали, как ведьмы знакомилися. Муж послушал-послушал да говорить:
– Ты ж спала! Никуда ты не летала.
А она – своё… Вот так-то за ней и осталося: ведьма да ведьма.
Да и не только Пятровна ведьмой слыла. Их же кто его ведаить сколько по деревне было, как что, так и окрестили. Во, Кривушиха… Её и свёкор мой раз видел, когда на покосе был. А луг от нас километров за тринадцать был, за Карловкой. Вышел он так-то на зорьке из шалаша и видить, как из лесу кто-то в белом выходить и прямо – на него! Ну он не из робких был… не спрятался, не побежал, а только на всякий случай косу в руки взял и стоить, смотрить. Баба это!.. В ночной рубахе, босиком, простоволосая. И узнаёть Кривушиху. Остановилася та, поглядела на него, поглядела, да как пустилася назад! И такими шагами!.. аж по саженью, нябось. Ну, ты подумай только! Это сколько ж километров надо было ей из деревни отмахать и столько ж – назад… Еще тебе про ведьм? Ну, слушай. Как-то слух пошел, что ночами по улицам ведьма бегаить и в ладоши хлопаить. Нынче кто-то слышал, на завтра… Вот и пошли слухи: раз ведьма повадилася, значить, либо коров перепортить, либо залом на поле заломить… Да это когда рожь станить вызревать, пойдешь ее жать, глядь, а залом этот на ней и закручен. Собрана она в пучок такой и узлом завязана хитрым… Ну да, может, кто и подшутил, а бабы: не-е, это ведьма закрутила… Как зачем? А на то, что б спорину38 из ржи вынуть. Смелить, к примеру, мужик мешок ржи, ни перевернется, а его и съели. Не будить у него спорины, а когда ведьма свою смелить, так и кто его знаить сколько есть будить! И заломы эти бабы обжинали, а мамка их выговаривала. Подойдёть к этому залому, возьмёть горсть земли да как ударить в него: