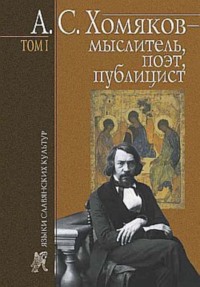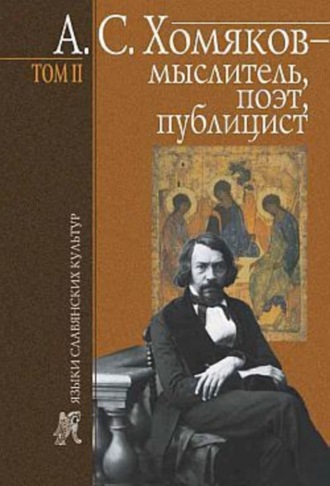
Полная версия
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2
Сегодня уже хватит отречения и самоотречения. Самоотречение есть добродетель в активной любви, самоотречение есть принцип братского созидания, также и во взаимных отношениях и дарованиях относительно материальных и духовных ценостей, но самоотречение в целях подлизывания к какой-то новой утопии, какой-то иллюзии универсального царства западноевропейских ценностей – всегда пагубно, какие бы добрые намерения за ним ни стояли. Существуют легитимные цели самоотречения, но если оно ведет к идолопоклонству, в котором предается своя идентичность, собственная земля и духовная стабильность, тогда подобное самоотречение не есть добродетель, а самый страшный порок, прямой путь к рабству и исчезновению.
Но в духе Хомякова каждое давление на совесть и свободу абсолютно недопустимо. Эти слова я даже не считаю апелляцией к совести, старой славянофильской совести, которая, возможно, у кого-нибудь еще и осталась. Ибо угрызение совести вещь неплохая, но решительного значения она не имеет. Решительное значение принадлежит именно решению, которое так тяжело дается современному поколению. Ведь как часто мгновенно вспыхнувшая «ярость благородная» находит в конце концов утоление в рюмочке. Как часто мы всего ждем от Бога. Но Бог не вмешивается в исторический процесс. Это было бы ниже Его достоинства и, еще больше, ниже достоинства творения Его – человека. Бог и пальцем не пошевелит помочь нам в тех делах, в каких мы сами себе должны и способны помочь. И это справедливо. Бог не потакает человеческой лени и избалованности наподобие плохого родителя, не низводит нас на уровень марионетки. У Бога, как бы сказал Бердяев, нет такой власти, как у простого полицейского. Бог не может отнять у нас то высшее, что Он дал нам, – наше богоподобие, нашу свободу, возможность быть и особорить самих себя. Из мирового процесса Бог не может делать комедию, используя, подобно гегелевскому лукавому разуму, нашу волю и наши желания для каких-то от нас скрытых, собственных целей. Давно ли поборники атеизма невозбранно высмеивали христианскую веру и кощунственно глумились над Божиим всемогуществом? Если Бог всемогущ, почему не создаст такой большой камень, который и Сам не мог бы поднять? Но Бог создал именно такой камень. И этот камень – земля и человек на этой земле. Без нашей свободы, без нашего согласия с Божией волей о спасении земли Бог землю не может поднять. Возвысив человека, Бог ограничил собственное всемогущество. Ведь спасение – не только его задача. Спасение – это и наша задача, которая заключается в том, чтобы как Богочеловечество, в синергии, в соборности, поднять этот огромный камень. Потому что мы свободны для соборного единства и способны к нему, свободны для общего дела, для деятельной, братской, творческой любви, для богоподобного, богочеловеческого дела.
Поэтому активное, деятельное сотрудничество сербов и русских, хотя бы только на поприще культуры, а это для нас важнейшее поприще, сегодня необходимо максимально развивать и по мере возможности ускорять. Тут должны прилагать усилия и вы, и мы, стараясь, конечно, избежать для культуры и настоящих ценностей губительной, истерической скорости, которой современные бизнесмены, всякие менеджеры и маркетинговые пиарщики не «ради хлеба насущного», а ради хлеба излишнего пытаются насытить все области жизни, включая культуру. Начинать нужно с малого. Для начала русский книжный магазин в Белграде был бы именно самым значительным, был бы первым конкретным последствием исполнения завета славянофилов, первым конкретным результатом той активной любви, о которой мы говорили, в смысле защиты того, что нам общее, – не нашей и не вашей, но общей кириллицы, нашего письма, нашего Слова. Быть в активной любви, любви не фантазирующей, не теряющейся в неосуществимых мечтаниях, действующей прежде всего в том, что легко осуществить, если, конечно, есть желание, чтобы славянофильство в лучших своих стремлениях не осталось только одной из идей в истории мировой мысли, а чтобы стало живым маяком и реальной жизненной практикой, быть в этой любви значит сделать немедленно то, что наименее тяжело, что совсем не тяжело. Когда русские поймут, что кириллица не только наша, сербская, что она и русская, но одновременно не только русская, а наша общая, кирилло-мефодиевская кириллица, тогда, может быть, станет понятным то, что я сказал: в Белграде, в центре Белграда необходимо открыть магазин русской книги в целях защиты и охраны этого нашего общего кирилло-мефодиевского Слова, этой нашей кириллицы. А это нетрудно, разве не так? Ведь если при бывшем режиме мог существовать магазин русской книги, почему бы ему не быть и теперь, когда мы освободились от насильственного интернационализма и вернулись к корням, и мы, и вы, когда действительно есть много того, что хотели бы друг другу сказать.
Насколько осуществление мечты славянофилов, веры в братство народов по вере и крови выражено в христианском активизме Федорова и универсализме Соловьева, настолько оно содержится и в парадоксе Бердяева, говорившего о том, что общество – часть личности и что универсальное – часть единичного. Действительно, только тогда, когда человечество будет прославлено через национальное существо, через личностный культурный организм каждой нации, только тогда будет возможен и истинный универсализм, начнется и акт истинного братотворения, соборности, истинного всеединства, и одно будет все, и все будет в одном – Бог будет во всем. Путь к этому всеединству лучше всего начинать с сотрудничества с тем, кто духовно и культурно тебе самый близкий.
О. Б. Ионайтис
Понятие «соборность» в сочинениях А. С. Хомякова
«Соборность» – понятие, имеющее принципиальное значение в философско-богословской системе А. С. Хомякова. Оно объединяет онтологические, гносеологические, антропологические и социальные воззрения мыслителя в систему. Можно указать на развитие этого понятия в самых разных сочинениях А. С. Хомякова: «Семирамида», «Церковь одна», письмо к редактору «L’Union chrétienne» по поводу речи о. Гагарина.
А. С. Хомяков пишет о том, что отличительной характеристикой Православия, его глубинным основанием является понимание соборности как неотъемлемой части религиозного бытия. Так сложилось исторически, и это было залогом истинного пути Православия. Но часто со стороны (каковым является выступление о. Гагарина) «соборность» трактуется внешне, примитивно, в этом краеугольном понятии Православия не видят живой истины. Хомяков неоднократно подчеркивает, что понимание «соборности» является не только делом религиозного поиска, но и культурного, национального самоопределения (не случайно свой ответ о. Гагарину он называет «Ответ русского русскому»).
Суть полемики заключалась в том, что Гагарин высказывал мнение о неправильной трактовке в славянском варианте понятия «кафолическая» церковь. Для него понятие «соборность» является «неопределенным и темным», «не содержит в себе выражения, в котором смысл слова “кафолический” сиял бы во всем блеске»[24]. По мнению А. С. Хомякова, подобная оценка полностью искажает истинный смысл понятия «соборность».
Чаще всего «кафолический» переводят как «всемирный». Хомяков считает мнение о. Гагарина, согласно которому «всемирный» означает то, «что Церковь объемлет все народы», – упрощенным. Слова о. Гагарина: «Свойство, которого по преимуществу не достает у восточного исповедания, то свойство, которого отсутствие мечется в глаза, есть именно кафоличность, всемирность. Стоит открыть глаза, чтобы убедиться, что Церкви этого исповедания суть Церкви областные, местные, народные, но не составляющие Церкви всемирной», кажутся Хомякову не отражающими истинный смысл понятия «всемирный», неверными как исторически, так и по сути. Он восклицает: «Но в таком случае, которая же из Церквей есть кафолическая? Где она? В Риме? Пусть покажут мне римскую церковь в народе турецком, в Турции; в народе персидском, в Персии; между неграми, в середине Африки?»[25]. Расценивая такой подход к пониманию всемирности церкви как глубокое заблуждение, Хомяков стремится доказать свою позицию: «Ну, а в то время, когда еще Церковь была, так сказать, в колыбели; когда она вся заключалась в тесной храмине, осветившейся в Пятидесятницу огненными языками, она ли, Церковь, по-вашему (с точки зрения о. Гагарина. – О. И.), была кафолична, или этой свойство в то время принадлежало язычеству? А когда торжествующее магометанство распростерло свои ястребиные крылья от Пиренейских гор до границ Китая и заключило в своем громадном охвате маленький мир христиан, кто был кафоличен, по-вашему? Церковь или ислам? Если свести дело на поголовный счет, не окажется ли, что в настоящее время буддизм кафоличнее Рима? Увы! В вашем смысле кафоличны доселе только невежество и порок, действительно свойственные всем племенам и странам»[26]. Хомяков указывает, что церковь кафолична в том, что это было ей обещано, то есть «кафолична в силу своей будущности». Кафоличность – это будущее величие церкви христианской, величие в первую очередь духовное. В этом А. С. Хомяков нисколько не сомневается.
Перевод слова Katholikos понятием «соборный» было предложено еще славянскими просветителями – братьями Кириллом и Мефодием, чей авторитет безусловен, как и рвение к истинам христианской веры. Этот перевод точно отражает смысл кафоличности церкви – соборность, всеобщность духовная. Можно было бы перевести, как предполагает Хомяков, греческое понятие славянскими «всемирный» и «вселенский». Но и они бы не выразили вполне смысла кафоличности церкви христианской. А. C. Хомяков подчеркивает, что «“собор” выражает идею собрания, не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве»[27]. Именно через такое понимание кафоличности приходит осознание того, что «Церковь кафолическая есть Церковь “согласно всему”. Или “согласно единству всех”. Церковь свободного единодушия, единодушия совершенного, Церковь, в которой нет больше народностей, нет ни греков, ни варваров, нет различий по состоянию, нет ни рабовладельцев, ни рабов; Церковь, предреченная Ветхим заветом и осуществленная в Новом»[28]. Более того, по мнению А. С. Хомякова, само слово «соборный» отражает суть исповедания истинной веры.
В этом понимании веры Христа Православие вернее следует Слову Божьему, чем католическая церковь и протестантизм: «апостольская Церковь в девятом веке не есть ни Церковь kath’ekaston (согласно каждому), как у протестантов, ни Церковь Kata ton episkopon tes Romes (согласно епископу Рима), как у латинян; она есть Церковь kath’olon (согласно всему)»[29]. Именно на последней из этих позиций и стоит Православие.
E. Целма
Мифологема соборного государства в русской религиозной философии
Русский дух хочет священного государства в абсолютном и готов мириться со звериным государством в относительном.
Н. БердяевГеоргий Флоровский справедливо полагает, что именно в 1840-е годы «родилась русская философия, свободная богословская мысль, тогда было положено начало исторической и общественной науке»[30]. Роль славянофилов в этом процессе велика.
Восток и Запад, Россия и Европа – за этой конкретной, фактической, историко-географической противоположностью для романтического сознания идеалистов 40-х годов стояла другая, дававшая ей содержание, принципиальная антитеза – антитеза принуждающей власти и творческой свободы. В процессе систематического углубления и эта антитеза была сведена <…> к антитезе разума и любви[31].
В связи с этим идея соборной личности, выдвинутая в работах А. Хомякова, стала важным моментом русской мысли. Исходя из опыта Православного Востока (особенно исихазма), Хомяков дал феноменологическое описание особого свободного единства человека и Божественного бытия. Это, как он подчеркивал, «единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению». Именно в этом принципиальное отличие индивидуализма личности европейской от соборной.
Несмотря на то, что идея соборности недостаточно разработана, она оказала заметное влияние на развитие русской мысли. Остановимся на одном из ее аспектов – идее особой сущности русской государственности.
Мысль об особой роли славянства (и особенно России) в синтезе индивида и общества, в органическом их единении была выражена в статье В. Соловьева «Три силы». Но особое внимание уделено этой идее представителями русской философско-публицистической мысли первой половины ХХ века – Н. Бердяевым, П. Новгородцевым, С. Франком, Л. Карсавиным, С. Булгаковым, И. Ильиным. Все они пережили крушение русской государственности, были свидетелями укрепления новой советской. Но это не повлияло на их образ идеального русского государства, отличного от западной демократии и восточной деспотии. Видимо, исторические катаклизмы в России и в мире еще более активизировали русскую мысль в поисках путей спасения Отечества.
Негативное отношение к западной демократии пронизывает все работы русских философов. Это прежде всего связано с отношениями индивида и власти, которые основаны на законах о правах и обязанностях гражданина (идея общественного договора Руссо), т. е. на «рационализации общественности»[32]. Государство в данной ситуации выступает в качестве инструмента социальной жизни, становясь «внешней общественностью», «механизмом количества» (Н. Бердяев).
П. Новгородцев в статье «Демократия на распутье» подчеркивает разрыв демократических принципов с нравственными идеалами. По его мнению, именно принципы демократии ведут к «игре сил» в обществе и к отказу от высших начал власти. Демократия может иметь смысл лишь тогда, когда над ней стоит справедливость, а народная воля преклоняется перед Высшей Волей. Совершенно очевидно, что появление таких образов, как «высшие начала власти», «Высшая Воля», свидетельствует об ином, отличном от западного, представлении о государственной власти.
Для Н. Бердяева демократия – это внешняя форма общественности, механика масс, механика количества (статья «Демократия и личность»)[33].
В противоположность этому типу власти выдвигается иной идеал государства (Государства с большой буквы). В основе этих представлений идея особого онтологического основания власти. Власть есть богоустановленное средство для внешней борьбы с «внутренним злом», существует «скрытое ее задание»[34]. С. Булгаков утверждает, что «земной царь становится как бы некоей иконой Царя Царей, на которой в торжественные, священные миги мог загораться луч Белого Царства». Русский народ носит в себе «это предчувствие – в своей идее Белого царства, чрез призму которого он воспринимал и русское самодержание»[35].
Религиозно-мистическое отношение к государству исключает утилитарное отношение, характерное для Запада. П. Новгородцев, немало сил в свое время положивший на обоснование роли права в общественной жизни, вынужден признать, что все попытки привить русскому сознанию мысль об органической связи политической свободы с твердостью закона не увенчались успехом. Даже интеллигенция не приняла этих идей, а приняла, как он утверждал, «анархическую веру Бакунина»[36]. Рациональное понимание государства чуждо русскому сознанию. Новгородцев прав, видя в русском анархизме (и в народных бунтах) борьбу против государства неправды во имя Белого Царства, т. е. государства абсолютной справедливости и мудрости, той самой теократии, на которую указывал В. Соловьев.
О священном авторитете власти пишет и С. Булгаков. Интересно, что П. Новгородцев после революции изменил свою в определенной степени западническую ориентицию. В статье «Восстановление святынь» (1923) он обосновывает целостно-сакральный взгляд на власть, выдвигая в качестве основы подлинного Государства не закон и права, а «теономную мораль», «власть святынь». Спасение России не во внешнем устроении человеческой жизни (это задача государства на Западе), а в возвышении государственного строительства «до степени Божьего дела, как верили в это и как об этом говорили встарь великие строители земли русской»[37].
Государство должно строиться на высокой ответственности власти перед Богом и людьми. Однако неясен механизм реализации такого принципа. Это либо «компетентное общественное мнение» (П. Новгородцев), либо некие «инициаторы» (Л. Карсавин), у которых нравственные и профессиональные репутации совпадают. Инициатор может разбудить «смутное желание всех» сформулировать «не всем ясную цель»[38]. Итак, вместо «внешних» структур власти должно быть единство государства и народа, в основе которого как теургия власти, так и вера народа этой власти.
В результате создается мистическое единство народа и государства, которое может жить «лишь ценой общих и вольных жертв». По мнению Г. Федотова, «государство чудится самым внешним и грубым из человеческих объединений», но основой подлинного государства может быть лишь любовь[39].
Подчеркивая глубину мистического единства народа и государства, Л. Карсавин использует понятие-метафору «народ – государство», подчеркивая, что социальные индивиды таким образом входят в общую «симфонию общества». И. Ильин полагает, что государство – это «живая система братства граждан, где личный и государственный интерес есть тождество». Его цель – «возводить каждый духовно верный и справедливый интерес отдельного гражданина в интерес всего народа и государства»[40]. «Духовно верный и справедливый интерес» не является эгоистически индивидуальным или эгоистически групповым, а скорее выражает глубину соборной связи индивида и государства. В этом плане даже захват чужих территорий воспринимается как собирание земель под сенью единого государства. Г. Федотов подчеркивает необычный характер этого процесса: «Овладевая степью, Русь начинает ее любить, она находит здесь новую Родину. <…> Волга, татарская река, становится ее матушкой, кормилицей»[41].
Результатом соборного единства индивида и государства является «государственное очищение души – очищение от личной жадности и “классового своекорыстия”»[42]. Очевидно, что не закон и правовые механизмы лежат в основе отношения гражданина и государства, а вера в справедливость власти и ее законов в силу онтологических оснований. Глубокое доверие власти и ответственная дисциплина граждан создают гармоническое социальное целое, для обозначения которого И. Ильин использует понятие «державная мера». И держава, и самодержец, и подданные составляют единое гармоническое целое. Подданные (народ) не просто подчиняются законам, а верят в их справедливость. (А если вера исчезает, то рождается тот самый бунт, который хорошо известен истории государства Российского.) По существу правосознание как таковое исключается. П. Новгородцев уже в эмиграции, осмысляя трагедию России, продолжает развивать те же идеи особого соборного государства: «Дело не в том, чтобы власть была устроена непременно на каких-то самых передовых началах, а в том, чтобы эта власть взирала на свою задачу как на дело Божие и чтобы народ принимал ее как Благословенную Богом на подвиг государственного служения. <…> не политические партии спасут Россию, ее воскресит воспрянувший к свету вечных святынь народный дух»[43]. О том же говорит И. Ильин, подчеркивая, что царь-самодержавец никогда не подавлял «свободное биение народной жизни, ибо народ свободно верил своему царю и любил его искренне, из глубины»[44]. Здесь важно заметить, что происходит явная подмена государства личностью самодержца, отвечающего за все перед Богом и людьми. Государство, его институты, структуры отступают на второй план, уступая место харизматической личности царя.
Возникает явное противоречие между образом соборного государства и реальным русским государством того времени, называемым тюрьмой народов, жандармом Европы. Именно против него боролась российская интеллигенция, что подтверждает страстное высказывание Е. Трубецкого: «Самодержавие оказалось сосудом диавола. <…> Россия создала самую безобразную государственность на свете»[45]. Но это противоречие снимается, т. к. метафизическая сущность государства скрыта и проявляется лишь в определенные исторические моменты. Раскрытие метафизики власти требует особого напряжения духовной жизни. Именно поэтому метафизическую сущность государства могут не уловить не только подданные, но иногда и сами правители. В то же время это не меняет сущность государства, а лишь свидетельствует о некоторых негативных аспектах его реальной деятельности в определенное время. Тот же Е. Трубецкой в письме от 1 ноября 1917 года четко определяет это: «<…> каждый камень в Кремле говорит о великом, святом, неумирающем, чего нельзя отдать и что переживет все наше беснование»[46].
Разрыв соборной связи народа и государства – трагедия для России. Именно так расцениваются события в России начала ХХ века большинством интеллектуальной элиты. Г. Федотов вину русской интеллигенции видит в том, что она целенаправленно расшатывала в народе веру в святость государства: «<…> мы не хотели поклониться России – царице, венчанной царской короной. Гипнотизировал политический лик России – самодержавной угнетательницы народов»[47]. А ведь государство есть «плоть России, в которую облекается великая душа России»[48]. Даже жестокость власти оправдывается, т. к. это связывается с выполнением задач метафизического характера: «Грозные цари взнуздали Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам»[49]. Н. Бердяев, ненавидевший коммунистический режим, именно с этих позиций в работе «Истоки и смысл русского коммунизма» тем не менее положительно оценивает роль жесткой политики большевиков, спасших, по его мнению, Россию как государство от стихии гражданской войны. Процесс крушения самодержавия по существу не разрушил мифологему государства в народном сознании, а способствовал укреплению государства власти большевиков.
Образ соборного государства в работах русских философов тесно связан с представлением об особой миссии России в религиозно-духовном возрождении человечества. Россия как Востоко-Запад (Н. Бердяев) должна стать для Европы «внутренней, а не внешней силой, силой творчески преобразующей»[50]. По словам Н. Бердяева, «русский народ не захотел выполнить своей миссии в мире», но он не сможет уйти от нее. «Идея России остается истинной и после того, как народ изменил своей идее», т. к. «Россия, как Божья мысль, осталась великой, в ней есть неистребимое онтологическое ядро»[51].
Вера в «неистребимое онтологическое ядро» становится основанием для утверждения необходимости и возможности возвращения России в лоно основных святынь, а значит, и русской соборной государственности. Так, П. Новгородцев прямо называет свою работу «Восстановление святынь» (1923). В связи с этим интерес представляют статьи Г. Федотова («Россия и свобода», «Судьбы Империи»). Годы эмиграции заставили его более глубоко проанализировать как западную демократию, так и российское самодержавие, которое «питалось не столько интересами государства, еще менее народа – сколько похотью власти»[52]. Федотов видит, что большевистская власть не смогла бы удержаться без народной поддержки, т. к. соборная связь народа и старого государства была разорвана. И впервые в его работах речь идет о необходимости уничтожения имперского сознания и построения «свободной социальной демократии». Но он явно говорит о демократии иной, отличной от Запада (свободная демократия!). Кстати, еще в 1906 году Трубецкой в статье «Всеобщее, прямое, тайное и равное» противопоставлял западное понимание демократии, которая «зависит <…> от прихоти большинства», иному, когда ее основой является нравственное начало, а не закон: «Только такое одухотворенное понимание демократии может совлечь с нее образ звериный и сообщить святость ее делу»[53]. Совершенно очевидно, что и здесь выступает та же мифологема государства, о которой речь шла выше, т. к. западная демократия строится на основе закона, но не нравственных начал, тем более «святости ее дела».
Казалось бы, все эти представления остались в прошлом. Сегодняшняя Россия строит демократическое государство, но мифологемы всегда прочно держатся в сознании народа и, думаю, большой части интеллигенции. Об этом свидетельствуют хотя бы провал партий, отстаивавших демократические ценности, на последних выборах в Думу и явное укрепление вертикали власти Путиным, которого в этом поддерживают народные массы. Идет восстановление святынь по всем направлениям. Возникает особое понимание государства, которое олицетворяют не чиновники, а именно Путин. Может быть, это и есть та идеальная модель, которая может объединить огромную Россию.
Н. Видмарович
Творчество А. С. Хомякова в свете идей соборности
Исполнилось двести лет со дня рождения человека, стоявшего вместе с другими выдающимися мыслителями, такими как Киреевский, Самарин, у истоков национальной русской философии. А в 100-летний его юбилей другой писатель-философ В. В. Розанов, критически высказываясь о его идеях и взглядах, отмечал, что они «не представляют высокого и цельного здания»[54] и, кроме немногих почитателей, «кабинетных, книжных» людей, никто более не хранит «цельного строя его мыслей»[55]. И тем не менее Розанов не сможет не признать, что жизнь, устремляясь к иным целям, имеет в себе нечто хомяковское, причем самому Розанову, как, впрочем, и многим его современникам, не до конца было ясно, присутствует ли это нечто «в богатствах или дефиците». Это и неудивительно, поскольку славянофильские идеи со всеми своими очевидными перегибами оказались несозвучны рубежу XIX—XX веков. Эта эпоха уже испытала на себе и дух нигилизма с его пафосом отрицания традиционных устоев общественной жизни и общепринятых норм, со стремлением к переоценке ценностей и христианской морали, с его попыткой освободить человека от навязываемых обществом правил, якобы подавляющих личность, и дух марксизма с его открыто воинствующими материалистическими воззрениями, идеями разрушения старого и построения нового идеального общества, призванного стать новым единством, в котором, однако, свобода отдельного человека оказывалась оттесненной на второй план и в конечном итоге иллюзорной. Теперь общество сталкивается с новым кризисом – межнациональными конфликтами и конфронтацией, ведущими к разъединению. С другой стороны, мировому сообществу навязываются принципы глобализации – псевдоединство, в котором личность вновь оказывается порабощенной. Кажется, что история повторяется, и потому все то, что связывает народы воедино, но не внешне, не на принципах господства авторитета, а на основе поиска и нахождения точек соприкосновения, наполняется новым смыслом.