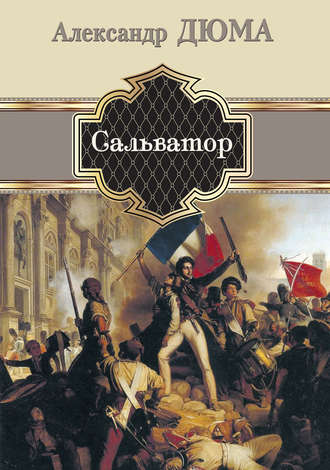
Полная версия
Сальватор. Книга V
– Помилуйте, дорогой мсье Жакаль, вы ведь не хотите меня уверить в том, что отдали приказ арестовать человека, не имея никаких причин для этого.
– Послушать вас, так можно подумать, что это я – король Франции.
– Нет. Вы – король Иерусалимский.
– Вице-король, и всего лишь префект полиции! Разве в моем королевстве не правят в первую очередь мсье Корбьер и мсье Делаво?
– Это значит, – произнес Сальватор, пристально глядя на начальника полиции, – вы отказываетесь дать мне ответ?
– Да разве я отказываюсь, мсье Сальватор? Я просто говорю честно, что не могу этого сделать. Ну что я могу вам сказать?.. Арестован мсье Дюбрей?
– Да, мсье Дюбрей.
– Ну, так вот: какая-то причина для его ареста была.
– Вот я вас и спрашиваю о причине.
– Он, вероятно, нарушил общественный порядок…
– Это не причина… Я видел, как его арестовывали. Он, напротив, вел себя очень спокойно.
– Ну, тогда, значит, была какая-то другая причина для ареста.
– Неужели такое у вас случается?
– Ах, – сказал господин Жакаль, беря понюшку табаку, – ведь только один святой отец безгрешен. Да и потом…
– Позвольте мне прокомментировать ваши слова, дорогой мсье Жакаль!
– Давайте. Но, по правде говоря, это для меня слишком большая честь.
– Вы не знали в лицо того человека, которого арестовали?
– Я видел его впервые.
– И вы не знали его имени?
– Дюбрей… Нет, не знал.
– И не знаете причин его ареста?
Господин Жакаль опустил очки на нос.
– Абсолютно не знаю, – сказал он.
– Из чего я делаю вывод, – продолжал Сальватор, – что причина его ареста весьма незначительна, а, следовательно, заключение его не должно продлиться долго.
– О, конечно! – ответил со слащавым видом господин Жакаль. – Вы именно это хотели узнать?
– Да.
– Так что же вы мне это раньше не сказали? Я не хочу сказать, что ваш друг будет выпущен на свободу в то время, когда мы с вами разговариваем. Но, поскольку он – ваш протеже, вам абсолютно не о чем беспокоиться. По возвращении в префектуру я распахну двери перед этим молодцом.
– Спасибо! – сказал Сальватор, с благодарностью глядя на полицейского. – Значит, я могу на вас рассчитывать?
– Это значит, что ваш друг может спать спокойно. В моих архивах… я говорю искренне, нет ни единого компрометирующего документа на мсье Дюбрея. Это все, что вам от меня было нужно?
– Да, все.
– По правде говоря, мсье Сальватор, – продолжал полицейский, видя, что толпа начала расходиться, – услуги, о которых вы меня попросили, очень напоминают собравшуюся толпу людей, когда думаешь, что держишь их в руках, а они, словно мыльные пузыри, исчезают.
– Наверное, – сказал со смехом Сальватор, – к тому и другому нужно отнестись серьезнее, ведь и то и другое явление нечастое и потому особо ценное.
Господин Жакаль поднял очки на лоб, посмотрел на Сальватора, понюхал табаку и снова спустил на нос очки.
– И что с того? – спросил он.
– А то, что я с вами прощаюсь, дорогой мсье Жакаль, – ответил Сальватор.
И, поклонившись полицейскому, и, как и при встрече, не подав ему руки, пошел по улице Сент-Оноре к стоявшему на углу улицы Нев-дю-Люксамбур фиакру, в котором его ждал Доминик.
Открыв дверцы кареты, он протянул Доминику руки.
– Вы – мужчина, – сказал он, – вы – христианин. Следовательно, вы знаете, что такое боль и покорность судьбе…
– Бог мой! – произнес монах, сложив белые тонкие руки.
– Так вот. Положение вашего друга серьезно, даже очень серьезно!
– Значит, он вам все рассказал?
– Напротив, он ничего мне не сказал. Это-то меня и пугает. Он не знал вашего друга в лицо, он впервые слышит фамилию Дюбрей, он не знает причины его ареста… Крепитесь, отец мой, повторяю, положение очень и очень серьезное!
– Что же делать?
– Возвращайтесь домой. Я попробую что-нибудь узнать. Вы тоже постарайтесь разведать по вашим каналам. И положитесь на меня.
– Друг, – сказал Доминик, – уж коль вы так добры…
– Что еще? – спросил Сальватор, глядя на монаха.
– Позвольте мне попросить у вас прощения за то, что я не все вам сказал.
– Еще не поздно. Говорите же.
– Так вот, знайте, что человек, которого арестовали, не Дюбрей, и он не мой друг.
– Вот как?
– Его зовут Сарранти. Это мой отец.
– Ага! – воскликнул Сальватор. – Теперь я все понял!
Затем, взглянув на монаха, сказал:
– Идите в первую церковь, которая попадется вам на пути, и молитесь, брат мой!
– А вы?
– Я… я попробую что-нибудь сделать.
Монах схватил руку Сальватора и, прежде чем тот успел воспротивиться этому, поцеловал ее.
– Брат мой, – сказал Сальватор. – Я уже сказал вам, что предан вам телом и душой, но нас не должны видеть вместе. Прощайте!
Он захлопнул дверцу кареты и быстрыми шагами удалился.
– В церковь Сен-Жермен-де-Пре! – сказал монах вознице.
И пока фиакр с присущей ему скоростью двигался в сторону моста Согласия, Сальватор быстрыми шагами направлялся к улице Риволи.
Глава XII
Привидение
Церковь Сен-Жермен-де-Пре с ее римским портиком, массивными колоннами, низкими сводами, запахами VIII века являлась одной из самых мрачных церквей в Париже, и, следовательно, в ней можно было скорее всего оказаться в одиночестве и обрести возвышенность души.
Поэтому Доминик, этот терпеливый монах, но человек строгих правил, не без причин избрал именно церковь Сен-Жермен-де-Пре для того, чтобы умолить Бога помочь отцу.
Молился он долго, а когда вышел из церкви, спрятав руки в большие рукава своих одежд и склонив голову на грудь, было уже начало пятого вечера.
Он медленно побрел по улице По-де-Фер, находясь во власти надежды – следует признать, очень неясной и робкой, – что его отец, освободившись, придет к нему домой.
А посему первым вопросом, который он задал доброй женщине, одновременно консьержке и экономке аббата, был вопрос, не спрашивал ли его кто-нибудь, пока он отсутствовал.
– Да, спрашивал, отец мой, – ответила консьержка. – К вам приходил какой-то господин…
Доминик вздрогнул.
– Как его имя? – спросил он.
– Он не назвал себя.
– Вы его не знаете?
– Нет… Я видела его в первый раз.
– Вы уверены, что это не тот, кто позавчера вставил для меня письмо?
– О, нет! Того господина я бы узнала: другого такого мрачного лица в Париже не встретишь.
– Бедный отец! – прошептал Доминик.
– Человек, который дважды приходил сюда, – продолжала консьержка, – потому что он приходил два раза: в первый раз в полдень, а во второй раз в четыре часа, был худым и лысым. Ему на вид лет шестьдесят, маленькие, глубоко сидящие глазки, как у крота, и болезненный вид. Кстати, вы, возможно, его скоро сами увидите, поскольку он сказал мне, что должен что-то купить и вернуться… Мне впускать его?
– Конечно, – рассеянно сказал аббат, которого в данный момент не интересовало ничего, кроме новостей об отце.
Взяв ключ, он уже направился было наверх.
– Но, мсье аббат… – произнесла женщина.
– Что?
– Вы, выходит, пообедали в городе?
– Нет, – ответил аббат, отрицательно покачав головой.
– Тогда, выходит, вы весь день ничего не ели?
– Я об этом как-то и не подумал… Сходите, пожалуйста, к ресторатору и принесите мне что-нибудь.
– Если мсье аббат не возражает, – сказала сердобольная женщина, бросив взгляд на свою печь, – у меня есть хороший бульон…
– Прекрасно!
– Потом я брошу на сковороду пару отбивных: это будет много лучше, чем взять мясо у ресторатора.
– Поступайте, как считаете нужным.
– Через пять минут бульон и отбивные будут у вас в комнате.
Аббат кивнул головой в знак согласия и пошел к себе.
Войдя в комнату, он распахнул окно. В окно сквозь ветви деревьев Люксембургского сада, на которых уже набухли почки, пробились последние золотые лучи заходящего солнца.
В воздухе стояла та легкая синеватая дымка, которая предвещала наступление весны.
Аббат сел, опершись локтем на подоконник, слушая щебет вольных воробьев, готовившихся разлететься по своим гнездам.
Консьержка, как и было обещано, принесла бульон и две отбивных. Не прерывая задумчивости монаха, поскольку уже привыкла видеть его в таком состоянии, она поставила все на стол, а стол придвинула поближе к нему.
Аббат любил крошить хлеб на подоконник, а птицы, привыкнув к такому подношению, обычно слетались к окну подобно тому, как древнеримские нищие собирались за подаянием у дверей Луккула или Цезаря.
Но вот уже целый месяц окно оставалось закрытым, целый месяц птицы напрасно взывали к своему другу, усаживаясь на подоконник и с любопытством глядя через стекло внутрь комнаты.
Но комната была пуста: аббат Доминик находился в Пеноеле.
Когда же птицы увидели, что окно открыто, их гомон усилился. Можно было подумать, что они сообщали друг другу эту благую весть. Наконец несколько птиц, отличавшихся, по-видимому, хорошей памятью, осмелились на всякий случай пролететь в непосредственной близости от монаха.
Шум их крыльев вывел аббата из задумчивости.
– А! – сказал он. – Бедные создания, я про вас совсем забыл. Но вы-то меня помните, значит, вы лучше меня!
Взяв кусок хлеба, он, как и раньше, раскрошил его по подоконнику.
И сразу же к окну подлетели не два-три наиболее смелых воробья, а все старые знакомые слетелись на угощение.
– Свободны, свободны, свободны! – прошептал Доминик. – Вы свободны, милые птицы, а мой отец находится в тюрьме!
Он снова упал в кресло, где за минуту до этого сидел, погруженный в глубокое раздумье.
Потом машинально выпил бульон и съел отбивные стой корочкой, которая осталась от хлеба после того, как он угостил мякишем воробьев.
Солнце постепенно, но неумолимо скрывалось за горизонтом и своими лучами золотило уже только верхушки деревьев и верхушки труб. Птички улетели в гнезда, и их щебет постепенно стих.
По-прежнему машинально Доминик взял газету и развернул ее.
Две первые колонки повествовали о происшедших накануне событиях. Аббат Доминик, зная о том, что произошло, не хуже репортера правительственной газеты, даже не стал их читать. Но когда он дошел до третьей колонки, его словно ослепило. По всему телу с головы до ног пробежала судорога, а на лбу выступила испарина. Еще не успев прочесть текста, он увидел, трижды повторенную, свою фамилию, вернее, фамилию отца.
Почему же это имя господина Сарранти трижды встречалось на страницах этой газеты?
Бедный Доминик почувствовал столь же сильное волнение, какое, вероятно, чувствовали гости на пиру царя Валтазара в тот момент, когда невидимая рука начертала на стене три пылающих слова, предупреждавших о смерти.
Он протер глаза, словно бы его ослепило зрелище крови. Потом попытался было прочесть, но державшие газету руки так сильно дрожали, что строчки текста прыгали перед его глазами словно зайчики, отраженные от постоянно движущегося зеркала.
Наконец, разложив газету на коленях и прижав ее ладонями, он при слабом свете умирающего дня прочел…
Вы догадываетесь, что он смог прочитать, не так ли? Он прочитал тот ужасный доклад, который был опубликован в правительственной прессе и который мы уже доводили до вашего сведения. Это был доклад, где его отец обвинялся в ограблении и убийстве!
Гром и молния не смогли бы ослепить и оглушить человека сильнее, чем эта чудовищная статья.
Но вдруг он вскочил с кресла и с криком бросился к секретеру:
– О! Благодарю тебя, Господи! Эта клевета, дорогой мой отец, вернется в ад, откуда она и вышла!
И вынул из ящичка лист бумаги, на котором, как мы уже знаем, была изложена исповедь господина Жерара.
Он страстно поцеловал свиток, который мог спасти жизнь человека. И даже больше, чем жизнь: его честь! Честь его любимого отца!
Он развернул бумагу, чтобы убедиться в том, что это был именно тот самый документ и что он не ошибся в своем порыве. Узнав почерк, он снова поцеловал документ и, спрятав его на груди под сутаной, вышел из комнаты, запер дверь и быстрыми шагами начал спускаться по лестнице.
Навстречу аббату в это время поднимался какой-то человек. Но аббат не обратил на него никакого внимания и уже было прошел мимо, не то что не заметив, а даже и не взглянув на него. Но тот схватил аббата за рукав.
– Извините, мсье аббат, – сказал остановивший Доминика человек. – Я хотел бы с вами поговорить.
Тембр голоса незнакомца заставил Доминика вздрогнуть: этот голос был ему знаком.
– Со мной?.. Но не сейчас, – сказал Доминик. – У меня нет сейчас на вас времени.
– У меня тоже нет времени приходить еще раз, – произнес человек и сжал локоть монаха.
Доминик почувствовал, как его охватил ужас.
Пальцы, сильно сжавшие его руку, походили на пальцы скелета.
Он попробовал рассмотреть, кто же это остановил его, но на лестнице было темно, а свет уходящего дня, падавший через единственное круглое окошко, освещал только несколько ступеней.
– Кто вы и что вам от меня нужно? – спросил монах, тщетно пытаясь высвободить руку из железной хватки незнакомца.
– Я – Жерар, – ответил человек. – А зачем я пришел, вы знаете.
Доминик вскрикнул.
Но это показалось ему совершенно невозможным. И, не веря ушам своим, он захотел удостовериться во всем собственными глазами.
Схватив незнакомца обеими руками, он подтащил его к освещенному красным лучом солнца единственному месту на лестнице.
Голова призрака попала под луч света.
Это действительно был господин Жерар.
Аббат попятился к стене, широко раскрыв глаза. Волосы на его голове встали дыбом, зубы громко стучали.
Некоторое время он простоял, словно человек, на глазах которого мертвец восстал из гроба. Потом глухо произнес одно-единственное слово:
– Живой!
– Конечно же, живой, – сказал господин Жерар. – Господь сжалился надо мной после моего раскаяния и послал мне хорошего молодого врача, который меня и вылечил.
– Вас? – воскликнул аббат, полагая, что все это он видит в страшном сне.
– Да, меня… Понимаю, вы считали меня мертвым, но я остался в живых.
– Так это вы дважды приходили сюда сегодня?
– И пришел в третий раз… Я вернулся бы и в десятый. Сами понимаете, мне нужно было, чтобы вы продолжали считать меня мертвым.
– Но почему именно сегодня? – машинально спросил аббат, растерянно глядя на убийцу.
– А вы разве не читали сегодняшних газет?.. – спросил господин Жерар.
– Читал, – глухим голосом ответил аббат, который начал понимать, что находится на краю пропасти.
– Ну, если читали, то вам должна быть понятна цель моего визита.
Доминик, действительно, прекрасно это понимал, и поэтому все тело его покрылось холодным потом.
– Поскольку я жив, – продолжал Жерар, понизив голос, – моя исповедь недействительна.
– Недействительна?.. – машинально повторил монах.
– Да. Ведь священникам запрещается под страхом вечной кары делать достоянием гласности исповедь без разрешения исповедуемого. Разве не так?
– Но ведь вы сами дали мне такое разрешение, – произнес монах.
– Умирая, дал. Но поскольку я остался в живых, я это разрешение забираю назад.
– Несчастный! – вскричал монах. – А как же мой отец?
– Пусть он защищается, пусть обвиняет меня, пусть доказывает! Но вы, исповедник, должны молчать!
– Хорошо, – сказал Доминик, понимая, что он не в силах бороться с неизбежностью, принявшей вид одного из основных догматов церкви. – Хорошо, негодяй, я буду молчать!
И, оттолкнув руку Жерара, собрался было вернуться к себе.
Но Жерар снова вцепился в него.
– Что вам еще от меня нужно? – спросил монах.
– Что мне нужно? – сказал убийца. – Я хочу получить бумагу, которую отдал вам в бреду.
Доминик схватился руками за грудь.
– Она у вас, – сказал Жерар. – И лежит здесь… Давайте ее сюда.
И монах снова почувствовал, как его руку сжала железная ладонь, а худые пальцы убийцы почти коснулись документа.
– Да, она здесь, – сказал аббат Доминик. – Но я даю вам клятву священника, что она здесь и останется.
– Так, значит, вы готовы нарушить обет? Вы хотите нарушить тайну исповеди?
– Я уже сказал вам, что иду на эту сделку и что, пока вы живы, я буду молчать.
– Так почему же вы тогда хотите оставить эту бумагу у себя?
– Потому что Господь справедлив. Потому что может так случиться, что по чистой случайности или во исполнение справедливости вы умрете во время суда над моим отцом. Потому, наконец, что если моего отца приговорят к смерти, я подниму эту бумагу к Богу со словами: «Господь, ты всесилен и справедлив, накажи виновного и спаси невинного!» Вот почему, негодяй! Это – мое право, как человека и как священника, и я этим правом воспользуюсь.
Сказав это, он оттолкнул господина Жерара, который попытался было преградить ему дорогу, и поднялся по лестнице к себе, властным жестом запретив убийце идти за ним следом. Войдя в комнату, он запер дверь и упал на колени перед распятием:
– Господь мой, Повелитель, – произнес он. – Вы всё видите и всё слышите. Вы видели и слышали все, что сейчас произошло. О, Господь всемогущий, во всем этом люди помочь ничем не могут, и обращаться к ним за помощью было бы кощунственно… Взываю к вашей справедливости!
Потом добавил глухим голосом:
– Но если вы не захотите свершить правосудие, я оставляю за собой право на месть!
Глава XIII
Вечер в особняке Морандов
Спустя месяц после событий, описанных нами в предыдущих главах, а именно 30 апреля, улица Лаффит (лучше назовем ее тем именем, которое она носит в наши дни: улица Артуа) в одиннадцать часов вечера выглядела несколько необычно.
Представьте себе бульвар Итальянцев и бульвар Капуцинов до самого бульвара Мадлен, бульвар Монмартр до бульвара Бон-Нувель, а с другой стороны параллельно идущая улица Прованс и все прилегающие улочки буквально забитыми экипажами с ярко горящими фонарями. Представьте себе улицу Артуа, освещенную двумя установленными по обе стороны ворот шикарного особняка огромными рамами с фонариками; стоящих на страже у этих ворот двух конных драгун и еще двух других на перекрестке улицы Прованс, – и вы поймете, какое грандиозное зрелище являли собой взорам прохожих окрестности особняка Моранда, когда его красивая хозяйка давала нескольким друзьям один из тех приемов, на которые страстно желали попасть все парижане.
Проследуем же за одним из экипажей, ожидающих своей очереди, чтобы приблизиться к парадному подъезду, остановимся на некоторое время во дворе в ожидании того, что придет некто и проводит нас в дом. А пока рассмотрим повнимательнее сам особняк.
Особняк Морандов стоял, как мы уже сказали, на улице Артуа между особняком Черутти, чье имя вплоть до 1792 года и носила эта улица, и дворцом Империи.
Три жилых корпуса и стена фасада образовывали огромный квадрат. В правом корпусе находились апартаменты банкира, в среднем располагались гостиные политического деятеля, а левый корпус целиком находился в распоряжении той самой прекрасной особы, которая уже неоднократно представала перед читателями под именем Лидии де Моранд. Все три жилых корпуса соединялись между собой для того, чтобы хозяин в любую минуту дня и ночи смог посмотреть, что творится у него в доме.
Салоны для приема гостей находились на втором этаже, напротив ворот. Но по праздникам открывались двери, соединявшие между собой жилые корпуса, и гости могли тогда свободно пройти в элегантные будуары жены и строгие кабинеты мужа.
Весь первый этаж занимали служебные помещения: в левом крыле находились кухня и кладовые, в центральном располагались столовая и вестибюль, а в левом корпусе были контора и касса.
Давайте поднимемся по мраморной лестнице, чьи ступеньки покрыты огромным ковром из Салландруза, и посмотрим, нет ли среди этих толпящихся в прихожей людей друга, который представил бы нас прекрасной хозяйке дома.
Нам знакомы уже главные гости. Можно сказать, самые почетные приглашенные. Но мы недостаточно с ними близки для того, чтобы просить их оказать подобную услугу.
Слышите, объявляют их имена.
Это Лафайет, Казимир Перье, Руайе-Коллар, Беранже, Пажоль, Келен – короче, все, кто представляет во Франции круг людей, стоящих на позициях между аристократической монархией и республикой. Это – люди, поддерживающие Хартию и втихомолку подготовляющие события 1830 года. И если среди названных имен мы не встретили имени господина Лафитта, то только потому, что он в данный момент находится в Мезоне и ухаживает с той заботой и преданностью, которые столь характерны для этого знаменитого банкира, за своим больным другом Мануэлем, которому вскоре суждено будет умереть.
Но вот, наконец, и человек, который проводит нас в дом. Переступив порог, мы отправимся туда, куда пожелаем.
Это юноша чуть выше среднего роста, одетый по моде того времени и имеющий в облике своем нечто, что неуловимо и в то же время однозначно выдает в нем художника. Судите сами: темно-зеленая одежда, украшенная лентой Почетного легиона, кавалером которого он стал совсем недавно. За какие заслуги получил он столь почетную награду? Неизвестно. Он ее не просил, а его дядя слишком большой эгоист, чтобы помочь ему в этом. К тому же дядя находится в оппозиции. На юноше жилет из черного бархата, застегнутый на одну пуговицу наверху и на три внизу, а через прорезь видно жабо из английских кружев. Короткие облегающие панталоны четко очерчивают худые стройные бедра, икры стянуты ажурными чулками из черного шелка. На ногах маленькие, женского размера туфли с золотыми пряжками. В заключение добавим ко всему этому голову двадцатишестилетнего Ван Дейка.
Вы узнали, кто это? Да, это Петрюс. Он недавно написал великолепный портрет хозяйки дома. Вообще-то он не любит заниматься портретами, но его приятель Жан Робер так горячо просил его нарисовать портрет госпожи де Моранд, что юный художник согласился. Следует сказать, что просьба его друга Жана Робера была подкреплена словами, слетевшими с неких прекрасных уст в тот момент, когда на балу у герцогини Беррийской, куда он был приглашен по неизвестно чьей рекомендации, очаровательная ручка сжала его ладонь, а слова, сопровождавшиеся милой улыбкой, были такими: «Напишите портрет Лидии, я так хочу!»
И художник, будучи не в силах ни в чем отказать этой прекрасной даме, в которой читатель уже, несомненно, узнал Регину де Ламот-Удан, графиню Рапт, открыл дверь своей мастерской для госпожи Лидии де Моранд, пришедшей на первый сеанс с мужем, желавшим непременно лично поблагодарить художника за оказанную им любезность. На следующие сеансы она приезжала в сопровождении только одного слуги.
Когда портрет был закончен, мадам де Моранд, понимая, что не могло быть и речи об уплате деньгами за любезность такому художнику, как Петрюс, такому благородному человеку, как барон де Куртене, шепнула прекрасному юному живописцу:
– Приходите ко мне когда пожелаете. Но только предупредите меня накануне запиской с тем, чтобы я смогла сделать так, чтобы вы застали у меня и Регину.
Услышав эти слова, Петрюс схватил руку госпожи де Моранд и поцеловал ее с такой страстью, что прекрасная Лидия вынуждена была сказать:
– О, мсье! Вы, должно быть, очень любите тех, кого любите!
На другой день Петрюс получил через Регину простенькую заколку для галстука. Цена ей была равна менее половины стоимости портрета, но только Петрюс с его аристократической душой был в состоянии оценить этот двойной знак благодарности.
Давайте же теперь последуем за Петрюсом. Сами видите, он имеет полное право ввести нас в банкирский дом на улице Артуа и провести по его салонам, где уже находилось столько знаменитостей.
Направимся прямо к хозяйке дома. Вот она, справа, в своем будуаре.
Когда же вы войдете в будуар, то вас сразу же охватит удивление. Куда же это подевались те знаменитые люди, чьи имена были оглашены при входе в дом, и почему это среди десяти или двенадцати женщин мы видим всего трех-четырех молодых людей? Да потому что все эти знаменитые политики пришли к господину де Моранду. Потому что госпожа де Моранд терпеть не может политику, потому что заявляет, что не имеет по этому поводу своего мнения, но считает, что госпожа герцогиня Беррийская прелестная женщина и что король Карл X был, очевидно, образцом благородного кавалера.
Но если мужчины – а они, будьте спокойны, вскоре появятся, – если мужчины, или скорее юноши в настоящий момент находятся в численном меньшинстве, то какой здесь цветник, какие женщины!
Для начала давайте займемся будуаром.
Это красивый салон, примыкающий с одной стороны к спальне и выходящий с другой стороны на связывающую жилые корпуса дома галерею. Стены будуара затянуты небесно-голубым атласом с черным и розовым орнаментом, и на фоне этой голубизны прекрасные глаза и великолепные бриллианты подруг госпожи де Моранд блестят, словно звезды на небосводе.

