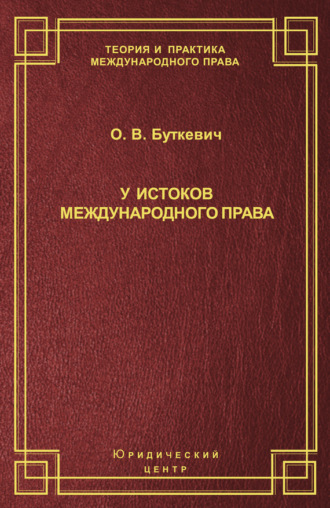
Полная версия
У истоков международного права
А. Фердросс не соглашался с полным отрицанием существования международного права в “древние времена”, но по этому поводу писал так: «Прежде существовало мнение, будто позитивное международное право сложилось только к началу новейшего периода, но в наши дни неоспоримо, что международно-правовые принципы имели силу уже в различных культурных кругах старого мира». Но сразу уточнял: «Наше международное право не связано с ними. Зато для понимания современного международного права необходимо обратиться к его развитию в мире средневекового христианского Запада»[93].
Правда, и среди тех исследователей, которые в целом негативно относились к возможности существования международно-правового регулирования в более древние, по сравнению с античной Грецией и Римом, этапы истории, были исключения. Так, А. Нуссбаум был скорее приверженцем существования международного права в более раннее, по сравнению с периодом античного Средиземноморья, время. «Выразительная концепция права народов как права, существующего между независимыми государствами, появилась лишь на протяжении последних нескольких веков… В широком смысле история права народов совпадает с документальной историей человечества. Она начинается с первобытных мирных договоров Ближневосточного региона»[94]. Условием возникновения международного права А. Нуссбаум считал заключение международных договоров, которое действительно относится к периоду древности.
Здесь следует различать заключение письменного международного договора как причину возникновения международного права и как свидетельство его действия, существования. В первом случае, если рассматривать данный правовой акт как предпосылку появления права, можно прийти к абсолютно неверным выводам, поскольку международный договор является лишь формой существования, влияния международного права, актом, фиксирующим его действие. Поэтому еще до появления подобной формы международное право должно было пройти длительный путь – должны были сложиться условия для его возникновения, формирования обычных, устных, договорных и других форм, а лишь потом – для писанного международно-правового договора.
Во втором случае заключение письменных международных договоров было для исследователей международного права существенным аргументом в пользу существования его зачатков в древний период[95]. Это является выразительным следствием позитивистского подхода к изучению не только международного права в целом (что само по себе нельзя считать неверным или нецелесообразным), но и его древней истории. В то же время нельзя, как это делают некоторые исследователи («Появление письменных кодексов совпадает для юристов с рождением собственного права»[96]), связывать появление права с возникновением письменности. Международное право возникло и начало развиваться задолго до изобретения последней. Роль заключения международных договоров как свидетельства появления международного права является безусловно значимой, если рассматривать акты, по своему правовому содержанию представляющие собой соглашение между двумя субъектами, фиксирующее определенное состояние их правоотношений, на которые распространяется принцип соблюдения сторонами своих обязательств. В таком случае заключение международных договоров является очевидным свидетельством существования и функционального действия международного права. В то же время совсем не обязательно, чтобы такое соглашение имело письменную форму. Поэтому представление о заключении именно писаных международно-правовых актов как о единственном или главном факторе, знаменующем появление международного права, научно не обосновано. Опираясь на него, некоторые ученые недооценивали другие виды источников международного права, в частности обычай.
Так, придавая большое значение факту заключения международных договоров и принципу их соблюдения как «главной основы международного права», Р. Редслоб приходил к выводу, что в древний период международное право было лишь «фрагментарной совокупностью норм»[97]. При этом сами международные договоры древности не были им проанализированы. Хотя факт заключения международных договоров и является существенным доказательством функционирования международного права, все же ссылка на него свидетельствует о подходе к вопросу с современных позиций. В древности на первый план часто выступает обычай, устное соглашение и другие источники или квазиисточники международного права в устной или письменной форме. Это отмечал Г. Моргентау, критикуя недостатки позитивизма в международном праве. Позитивистская доктрина, считая международно-правовыми лишь те нормы, которым государства придают обязательную силу, исключает из области международного права все нормы, действие которых базируется не на письменных актах государств… Мы обращаемся к концепции обычного права, позволявшей традиционной доктрине международного объяснить все нормы международного права, происхождение которых нельзя прямо вывести из письменных источников[98].
Следовательно, следует согласиться с юристами-антропологами, которые считают, что «письменность изменяет характер права, но не создает права, а является его формирующим элементом. Нет ничего удивительного в том, что “письменные” цивилизации не являются обязательно самыми правовыми»[99].
Будучи едва ли не наиболее популярным в науке критерием датировки возникновения международного права, фактор заключения международных договоров не заменяет собой все другие причины и предпосылки происхождения международного права. «До появления писаных договоров, – отмечает профессор В. Кузнецов, – человечество прошло долгий путь развития, в ходе которого родовые отношения привели к появлению племен, потом возникли союзы племен и т. д. Союзы племен могли появиться только в результате договора, хотя археологи пока не нашли соответствующих письменных источников. Договорам о союзе племен предшествовало осознание необходимости таких союзов как формы отношений племен, а это может означать только одно – норма как форма осознания появилась задолго до письменных договоров»[100].
Следовательно, объяснять процесс и механизм появления международного права лишь появлением письменных международно-правовых актов нельзя, поскольку существует множество других предпосылок его возникновения. Так, Г. Шварценбергер, которого также можно отнести к данному направлению датировки возникновения международного права (он писал: «Несмотря на то, что некоторые системы международного права на разных стадиях развития существовали в античности и, одновременно или последовательно, в других частях света, корни современного международного права находятся в средневековой Европе»[101]), указывает и на другие факторы, необходимые для появления международного права. Во-первых, заинтересованные сообщества должны быть готовы хотя бы признать друг за другом равный статус, если уж не установить действительно взаимовыгодное поведение. Во-вторых, достаточный контакт между ними должен привести к необходимости правового урегулирования их отношений[102]. В доказательство того, что эти условия были в известной мере соблюдены в древний период, автор опять же приводит договор египетского фараона Рамзеса II и царя хеттов, а также договор хеттского царя Суппилулиумы I с правителем Угарита.
Следует отметить, что первый договор служил доказательством существования международного права в древности для многих исследователей. Некоторые авторы считали договор Рамзеса II с Хаттусилисом III не только самым древним документом международного права, но и моделью международно-правового регулирования, заимствованной как древними восточными империями, так и Грецией и Римом.[103] В то же время, не отрицая роли этого международно-правового акта, мы должны сказать, что лишь немногие исследователи древнего международного права указывали на то, что он не является ни самым древним, ни наиболее эффективным или юридически совершенным договором древних государств[104]. Преувеличение же значения этого документа объясняется его большей доступностью для исследователей [105].
Другим условием возникновения международного права ученые данного направления считали появление и правотворческую деятельность государства. Этим объясняется в частности и их позиция относительно предыстории международного права – в древний период государства лишь начали зарождаться как таковые, а о государствах в их классическом виде можно говорить лишь начиная с периода развитого
Средневековья (хотя некоторые ученые относят к периоду Средних веков только начало процесса зарождения и образования государств[106]). То же самое, соответственно, утверждается и относительно международного права, как результата государственного волеизъявления. Однако здесь есть определенные неточности, а сама привязка к государствам представляет собой лишь следствие этатического видения международного права.
Международное право регулирует отношения своих субъектов во всей их совокупности; в древний же период кроме государств в качестве таких субъектов выступали и другие образования. В древности и в Средневековье еще не существовало государств в современном понимании, писал Нгуен Куок Динь, однако к международному праву следует подходить прежде всего как к праву «межобщинному», или «межгрупповому». Когда это право применяется к государствам, оно рассматривает их как отдельные и независимые «политические сообщества». Но такие политические сообщества, хотя они и не были государствами, существовали уже в античные времена и в Средние века. Следовательно, еще в общественной среде Античности и Средневековья возникали минимальные условия, необходимые для появления международного права[107]. Правда, дальше в своем исследовании автор все же настаивает на формировании международного права именно в средневековой Европе, при этом не отрицая влияния отдельных древних элементов на этот процесс. И хотя Европа немало способствовала тому, чтобы государственная система считалась центральным понятием международного права, ее цивилизация унаследовала также и античные греко-римские идеи, и принципы христианской цивилизации, ознаменовавшие все Средневековье… Однако, если в действительности и были найдены отдельные признаки международного права, похожего на известное нам сейчас, то это были лишь некоторые его рудименты. Постоянное состояние войны, которым характеризовались античные времена, не способствовало никогда и ни в одном регионе – будь то на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке или в греко-римском мире – формированию настоящей правовой системы[108]. В целом, если придерживаться сугубо государственного подхода, неминуемы неверные выводы и относительно самого международного права древнего периода. Как считают критики такого подхода, «если поверить, что международное право возникло вместе с государствами, значит надо поверить, что его зарождение и развитие зависит исключительно от воли государств»[109]. Однако, если учесть, что в древности государств долгое время не существовало, то и вопрос о появлении в то время международного права решается негативно. Между тем, уже в древности сложилась объективная потребность в правовом урегулировании международных отношений, на чем и настаивают представители данного направления датирования возникновения международного права.
В целом большинство условий, которые исследователи считали необходимыми для возникновения международного права, представители этого направления его датировки рассматривали как только начавшие зарождаться в древности. Настоящие же предпосылки возникновения международного права складываются, по их мнению, исторически позже. Г. Шварценбергер разделил историю международного права и подходы к ней на шесть периодов: 1) использование мифических и исторических источников; 2) идентификация истории международного публичного права с историей естественного права; 3) рассмотрение истории международного права как истории религиозных толкований международного общения; 4) рассмотрение международного права как части истории дипломатии; 5) сочетание истории международного права и истории его науки; 6) смещение акцента с истории доктрины и науки международного права на международную практику государств [110].
Что же касается самого международного права, то основное положение третьего направления заключается в том, что в древности существовали определенные институты международного права. Но они еще не составляли системы, так что та эпоха может считаться лишь периодом предыстории международного права. На протяжении этого периода оформлялись правовые фундаменты, базируясь на которых, международное право как система возникает в Средние века. Нельзя возразить, что системность международного права проявляется лишь в Новое время. Однако в данном случае важно определиться, о чем идет речь: о международном праве как системе со свойственной ей структурой, делением на отрасли, институты, нормы и принципы, с соответствующим внутренним построением и связями или о международном праве как правовом регуляторе международных отношений. В последнем качестве оно, безусловно, возникло и существовало уже в древний период, хотя для выработки его системы должно было пройти еще немало времени. Приверженностью тому или иному подходу объясняются и разногласия авторов относительно датировки появления международного права (как предправа или протоправа в древний период или как эффективного, но еще не совершенного, лишенного системности международного права).
На сегодня направление, рассматривающее древний период как этап «предыстории» международного права, а собственно его возникновение, датирующее Средними веками, можно назвать самым распространенным. Его представители (преимущественно в XX в.) пришли к компромиссу между традиционным пониманием сущности международного права как возникающего в средневековой Европе со всеми соответствующими предпосылками и условиями этого процесса и неопровержимыми данными прошлого, в частности международно-правовой практикой древности. Само это направление заключает в себе несколько теорий, рассматривающих в качестве необходимых предпосылок появления международного права уже упоминавшиеся факты заключения писаных договоров, государственного волеизъявления и пр. Среди наиболее аргументированных и доказательных из них – существование соответствующих международно-правовых источников или институтов международного права в древности. Однако последнее обстоятельство является лишь свидетельством существования в то время такого права, но не объясняет, как именно оно возникло и какие причины вызвали его к жизни. В этом данное направление является не достаточно разработанным. Вопрос же о механизме зарождения международного права является ключевым при выяснении не только его истории, но и сущности, и характерных черт. В то же время для верного объяснения его появления необходимо прежде всего исследование социальных предпосылок, факторов и условий, оказавших на него влияние.
Наибольшее достижение ученых, которые рассматривали древний период как период предыстории международного права, заключается в примирении международно-правового позитивизма и нормативизма в области истории международного права с реальными свидетельствами истории и международно-правовых источников древнего периода, с которыми эти течения никак не согласовывались. Одно лишь перечисление авторов, говоривших о зарождении международного права в древности, заняло бы немало места. Однако достаточно часто представители рассматриваемого направления, формулируя тезис о зарождении международного права в древний период или о периоде его предыстории, лишь отдавали свою дань неопровержимым международно-правовым фактам прошлого. В действительности многие из них придерживались традиционной точки зрения относительно возникновения международного права в новый период истории.
Здесь имеет смысл привести высказанную Г. Кельзеном мысль о том, что первобытный человек не мог руководствоваться правом, поскольку «в его сознании доминировала идея возмещения, а не соответствия (казуальности)… в сознании первобытного человека почти полностью доминировал эмоциональный элемент… поведение первобытного человека было обусловлено исключительно его желаниями».[111] Следовательно, часто голословное утверждение о несуществовании права как такового или существовании лишь его зачатков в древний период, представители этого направления подкрепляли достаточно слабыми аргументами о природе первобытного или древнего человека, не способного «подняться» до уровня права. Впрочем, при последующем рассмотрении институтов первобытного общества, и в частности формирования международного правосознания первобытных людей, станет понятной поверхностность подобных утверждений.
Направление, относящее появление международного протоправа к древнему периоду, а системы международного права наподобие современной к эпохе Средних веков, часто лишь отражает характерные черты международного права соответствующих периодов (например, несистемность, казуистичность, партикулярность, практическую направленность древнего международного права; преобладание в международном праве Средневековья идеи государственного суверенитета, формирование его системы и т. п.), часто путая его особенности на том или ином этапе с собственно его возникновением или трансформациями. Хотя, говоря о представителях данного направления, следует различать авторов, которые просто указывали на отдельные факты регулирования международных отношений в древности обычаями, обыкновениями, соглашениями, не считая их правовыми и даже категорически отрицая возможность существования тогда международного права,[112] и тех, которые рассматривали этот период как своеобразный этап становления международного протоправа[113].
Специфичность этого направления заключается также в подходе к международно-правовым явлениям древнего периода с современных для исследователей позиций и на основании современных же правовых представлений. В частности, влияние в древности естественного права часто вынуждало исследователей говорить о зачаточности международно-правовых институтов и явлений в то время (здесь они рассмотрели форму, а не содержание). «Сложность вопроса, – по мнению Ж.-Л. Бержеля, – проистекает из неоднородности обустройства правовых систем в разные эпохи и в разных странах, а также из нашей неуверенности в определении границ собственного права и правил иной природы, действующих в обществе»[114].
Однако как первые, так и вторые «не увидели» реальных свидетельств существования международного права в Древнем мире. С одной стороны, к этому привели их субъективные научные позиции; с другой – преобладающее в науке непризнание международного права древности. На протяжении прошлых двух веков практически сложно было говорить не только о существовании институтов международного права в древности, но часто и о правовой природе самого международного права. Следовательно, многие ученые связывали его появление с созданием Лиги Наций или ООН; система международного права, созданная этими организациями, признавалась «настоящей», а все, что было до нее, воспринималось лишь как определенный подготовительный этап к ее возникновению. В течение длительного периода называть очевидные международно-правовые факты прошлого «международно-правовыми» считалось чуть ли не крамольным. На основании таких критериев в «предысторию» можно включить и международное право XVII, XVIII и XIX вв.
Со второй половины XX в., после открытия большинства международно-правовых источников Древнего мира и других археологических находок, оказавших влияние на науку истории права, ситуация, безусловно, изменилась. Однако все эти открытия и находки преимущественно повлияли лишь на констатацию существования определенных международно-правовых зачатков; концептуально взгляд на историю международного права не изменился. Исследователям для изменения своих позиций необходимо было не просто наличие фактов и доказательств, а качественно новый подход к теории международного права.
Лишь в следующие периоды стало возможным более свободное обращение с вопросом о возникновении международного права. В частности, это проявляется в четвертом рассмотренном здесь направлении в датировке возникновения международного права, представители которого по-новому начали трактовать как историю международного права (в частности, механизмы и процесс его зарождения, возникновения и формирования), так и его сущность. [115] границы. Условие возникновения международного права ученые обозначили как «саморегуляцию первобытного общества».
Функция социального регулирования, или права, по мнению представителей этого направления, возникает уже в первобытный период как основная предпосылка установления стабильности. Отношения внутри племен могли регулироваться с помощью неправовых обычаев, магии, ритуалов, верований, а отношения между племенами требовали более четкого закрепления. Последнее могло дать лишь право; следовательно, сторонники данного направления датирования возникновения международного права справедливо говорят о первичности в праве вообще международных элементов относительно элементов внутренних.
Безусловно, для решения вопроса о существовании международного права в первобытный племенной период необходимо сначала определить, что мы понимаем под международным правом и каково его регулятивное свойство. Недаром сторонники рассматриваемого направления считали, что «история возникновения международного права должна дать ответ на вопрос о его природе и сущности»[116]. Представители этого направления давали своеобразную оценку праву вообще и его происхождению, не связывая его появления с традиционными условиями.
В основном неприятие этого направления было вызвано тем его основным положением, что международное право возникает до появления государства с целью регулирования межплеменных отношений; другим его положением, противоречащим традиционной науке, стало признание возможности существования международного права в неевропейской среде. Здесь можно снова сослаться на мысль Н. К. Диня о том, что международное право по своей сущности является «межобщинным», «межгрупповым», а не межгосударственным и призвано регулировать отношения соответствующих политических образований, вступающих в международный контакт [117].
Поэтому сторонники идеи возникновения международного права в первобытный период настаивают на том, что этим правом вынуждены были регулировать свои отношения (которые объективно возникали в результате экономического, политического, военного взаимодействия между ними) еще квазигосударственные образования, предшествовавшие формированию государства (в частности вождества, протогосударственные формирования). Эти ученые утверждают, что первичные международно-правовые отношения сложились еще в племенных образованиях, союзах и отдельных племенах.
Этот вопрос действительно не является однозначным, поскольку, как писал Г. Еллинек, «не так просто определить тот пункт, начиная с которого первобытное общение следует рассматривать как государство»[118], и государства на протяжении длительного времени сосуществовали и взаимодействовали с образованиями различного типа (вождествами, племенами, общинами, клановыми образованиями и др.); поэтому четкий водораздел здесь не может быть проведен. Если же международное право рассматривать в буквальном его понимании как право, регулирующее отношения между народами и их общественно-политическими образованиями, то истоки и период формирования его следует искать в контактах первых общественных образований, интересы которых начинают выходить за их границы. Данный процесс проходит еще в среде первобытных групп, племен, семейных кланов и этнических сообществ.
Представители рассматриваемого направления отстаивали следующие условия и предпосылки происхождения международного права. Существуют определенные предпосылки зарождения и развития права между народами, писал индийский историк международного права Н. Сингх. Во-первых, и это наиболее важно, должны существовать отдельные независимые политические образования со своими собственными правительствами, возможно и примитивными, а впоследствии такими, как племенные, феодальные, монархические, республиканские или олигархические. Во-вторых, должна существовать конечная необходимость во взаимоотношениях между ними, в развитии этих взаимоотношений, которые требуют регулирования и таким образом связаны с raison d'etre международного права. В любом случае, поскольку подобное регулирование должно базироваться на силе права, третьим основным условием для формирования международного права является природа санкций, созданных в сфере управления международным взаимодействием. В племенной структуре ригведского общества не могло развиться право между народами, пока несколько племенных образований, существовавших независимо друг от друга, не сформировали единый руководящий орган в виде института короля[119]. В данном случае, очевидно, говорится о возникновении международного права на этапе формирования вождеств.
Основными противниками идеи появления международного права в первобытный племенной период были представители позитивистской школы. Однако и среди них были те, кто, руководствуясь позитивистскими постулатами, приходил к выводу о возможности зарождения международного права в первобытный период в межплеменных отношениях. Так, одним из основных признаков права позитивисты называют его волеустановленность. Один из представителей этой концепции права, П. Палиенко, писал, что «устанавливающая право воля принимает в истории самые разнообразные формы, например, форму воли первосвященника, главы племени, какой-нибудь касты, корпорации, неопределенной массы лиц, как в обычном праве, или воли так или иначе организованной государственной власти»[120]. Следовательно, исходя из идеи об отсутствии государственно-волевого момента в чистом виде в первобытный период, мы можем прийти к противоположному выводу о возможности возникновения международного права на почве племенных отношений.

